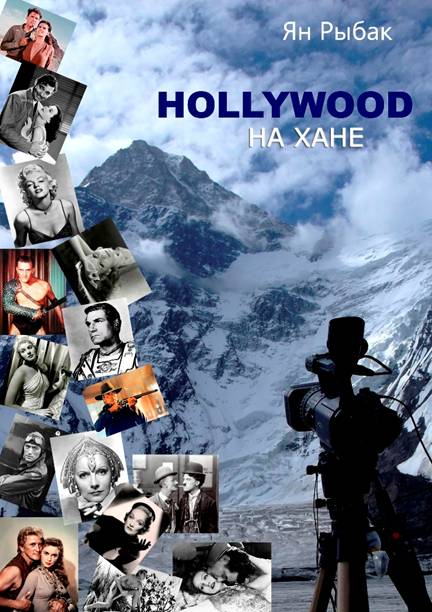|
|
Голливуд на
Хане |
|
|
"Его
название в
переводе
означает -
Повелитель
неба." Википедия. |
||
|
HOMEPAGE |
|
О
Красимире и
Лёшиных
водянках О том,
как Саша
Коваль не
съездил в
Японию Все
флаги в
гости будут
к нам... Посттравматическое
послесловие |
|
|
|
|
|
Я знаю, знаю, с
чего я начну!
Я начну со
стихов, с
бесшабашной поэмы,
которая
выстрелила
из меня, как
струя
шампанского
в тот самый
момент, когда
я осознал,
что это
правда: меня
пригласили
сниматься в
кино! Более
странного,
дикого, нелепого
поворота
событий не
мог ожидать я
даже в этот
странный,
дикий и
нелепый
период своей
жизни –
довольно
тоскливый,
надо сказать…
И не то чтобы
я всю жизнь
мечтал о
карьере киноактёра
– вовсе нет.
Как раз
именно этот род
деятельности
всегда
казался мне
чуждым и
непривлекательным,
да и не подхожу
ведь ни
рожей, ни
кожей, ни
норовом своим
– общителен с
близкими, но
толп чураюсь.
Нет, не
ликовал, но
было мне
смешно и
странно… Я
рассматривал
эту
воображаемую
будущую
коллизию со
всех сторон,
обсасывал
как леденец,
я потешался
над самим
собой: строил
ажурные
песочные
замки и тут
же опрокидывал
их наземь,
выдувал
радужные
мыльные пузыри
и сам же
прокалывал
их иглой
убийственной
иронии – хлоп!
Кто, кто
поверит, что
такое
случается в
жизни?..
Так вот, я
начну свою
повесть с
поэмы.
У меня есть
именитые
предшественники
в этой затее.
Пастернак
увенчал
своего
«Доктора
Живаго»
завораживающе
прекрасными,
затмевающими
его же собственный
прозаический
текст
стихами. Саша
Соколов,
любимый
писатель
одной моей далёкой
знакомой –
смертельно
опасной, надо
сказать, для
меня женщины
– любил
присовокупить
к своей
хитросплетённой
до полной
непролазности
для простого
смертного
прозе дурашливые
якобы строфы.
Вроде бы и не
всерьёз – безделица
и баловство,
но поди ещё
разберись,
что важнее
для него
самого –
«Собака» ли, хвост
ли…
Да, у меня
есть великие
предшественники,
но я буду в
чем-то и
оригинален: я
не завершу своё
произведение
поэмой, как
они… Нет, - с
поэмы я
начну! И не
потому, что
она столь
прекрасна - я
вполне
сознаю её
сиюминутный,
сугубо прикладной
и даже «стихотерапевтический»,
можно
сказать,
характер, - а
потому, что
она была моим
первым стихийным
откликом,
ироническим
и задорным выплеском.
Именно она
наиболее
точно отражает
мою первую
реакцию, ход
моих мыслей,
всю цепочку
ассоциаций,
которая
выстраивалась
в моей
ошарашенной
голове, пока
я переваривал
с трудом
проглоченное:
«Мы
приглашаем
Вас в проект,
как главного
героя
документального
фильма…»
А ведь я был
необычайно
тих в то
время. Тих, одинок
и печален. Я
никого не
трогал. Я
заканчивал
душные и
потные левантийские
вечера
строфой
Бродского
или стаканом
бренди… Чаще
попеременно,
редко – вместе.
Это была
одинокая
жизнь
настоящего русского
интеллигента,
если не
считать того,
что вечерами
было душно и
потно, а сам
интеллигент
был русским в
весьма
относительном
смысле.
И настало
Утро, и
пришел я на
работу, и
открыл я
почтовый
ящик
Пандоры...
Отстраняется
стакан:
К черту
всё – лечу на
Хан!
Хоть
припахан и
затрахан,
Скажем
НЕТ
бездумным
страхам,
И да
здравствует
размах!
Преодолеваем
страх:
Со стола
бумаг бархан
Мы на пол
сметаем
махом,
Босса
посылаем
"нах"!
Надоело
мять диван,
Я – Багира,
я – Шерхан!
В
Голливуде
или в Канне
Ждут
меня шальные
"мани",
А на
рюмке, на
стакане
Не
прискачешь в
город Канн…
Канут в
прошлое
ненастья,
Брошу
шляпу под
кровать -
Буду сам
я подавать!..
К белой
кости, к
высшей касте,
Стану я
принадлежать!
Я
намерен
поднажать -
Рожу
пряником
держать
(Я же
вырос на
компосте,
и на
сцене, на
помосте
Люд
Шекспиром
ублажать
Не
пришлось, не
довелось
мне)…
Мне
придётся
возмужать:
Три
вершка
прибавить в
росте,
Сажень
закосить в
плечах,
Запалить
огонь в очах…
Стану
парень я не
промах,
Парень
стану –
просто "Ах!"…
До
свидания,
"вчера",
То, в
котором ни
хера -
Быт
постылый, быт
пропитый…
Ждут нас
слава и
софиты:
Режут
глаз
прожектора,
Марши
раздирают уши!
Будет
краше, будет
лучше,
Всё
отпляшет на
ура!..
Пусть
мой
непутёвый
лик
К
киносъёмке
не привык,
Пусть -
потеха и
умора,
- это дело
режиссера,
Для того
окончил ВГИК
Он с
отличием и
шиком,
Для того
не шит он
лыком,
Для того
учился чай…
Ты,
Георгий, не скучай!
Просвещайся
ты, Георгий:
"Тяпку"
с веником
сличай!..
Ты, хоть
молодой, но
зоркий,
Наш
фильмец
ядрёный,
тёрпкий
Выйдет
лучше, чем
"Чапай"!
Вот
сценарий на
бумаге:
Всё
завяжется в
Базлаге,
Мы
напялим
кошки, краги,
По
карманам –
курагу
(Чтобы не
скучать в
снегу,
Чтобы
трещины-овраги
Шлись не
"через не
могу",
А
вприпрыжку,
на бегу…)
Нам
погода
строит
жмурку:
Снег – не
вылепишь
снегурку,
А ведь
нам нужна
пурга!
(Это
нужно
драматургу,
Он берёт
народ "на
дурку"...
Всё
сварганим!..
ни фига
Не
допрут они, придурки!..)
Та-а-к…
выходим на
врага…
Спозаранку
сонный
лагерь
Мы
поставим на
рога
И
бульдозером -
в снега!
Пусть
пурга
развесит
флаги,
Пусть
невидимо ни
зги…
Мы -
суровые
мужчины,
Джеки
Чаны, аль
Пачины
Нам
неведомы
кручины:
Бицепс
крепок и
мозги!
Ширь равнин
– для мелюзги,
А у нас в
плечах
аршины,
Нам без
кручи, без
вершины
Не с руки
и не с ноги…
Колокольцами
с дуги
Забренчали
карабины!
Ярче
воссияйте
льдины!..
(Оператор,
не трынди –
Запечатлевай
картину!
Кадры – от
бедра, с руки!..)
Ждут нас
фирна наждаки
-
Нажумарим
умно, тонко
Километры
киноплёнки!
Скулы
сжав и
кулачки,
Зарыдают
от восторга
И
прелестные
бабёнки,
И
пухлявые
ребёнки,
И
трухлявые
опёнки,
И крутые
мужички!
А когда
мы откозлим,
Отбузим
и отъегозим,
Вот
тогда мы –
шапку оземь! –
По Европе
заскользим…
Хороша
игра, а мина –
Это дело
наживное,
Основное
– наша кино-
Наша
-лепта, наша
-лента!
Мы
начнём,
пожалуй, с
Тренто –
Место
бодрое,
живое!
"Горы,
бицепсы,
герои" -
Там, как
раз про всё,
про енто…
Это
круто для
почина!..
Нет
чудеснее
патента:
Сумма
места и
момента!..
Одарённы
и таланны!
Как
страна
широки планы:
Станет
нашинским
Бродвей,
Весь – от
пяток до
бровей…
Но
сперва
мотнёмся в
Канны -
Пальмовых
огресть
ветвей,
Хановы
залижем раны…
И
отправимся
за лавром,
Как Ясон
и, как Тезей,
В стан
врагов, а не
друзей:
К
минотаврам–динозаврам
В
Голливудские
казармы…
Мир –
арена,
Колизей,
Так
сражайся – не
глазей!
По
рассказам, в
Голливуде
Всё
замешано на
блуде
(Не
судите
строго люди,
Что
имеешь – то
болит…)
Всё
смешалось:
кони – люди,
Ноги – руки,
губы – груди…
Кто ж там
водится в
запруде?..
Рок к
кому
благоволит?
Голливуд,
- он многолик,
Путь к
Олимпу
многотруден,
Там
мужик -
кремень, не
студень,
Что ни
личность, то - unique:
Спилберг
пламенный
бурлит,
Не
подвержен
порчам,
сглазам,
Режет
глазом, как
алмазом -
Кроит
кино-мегалит.
Тарантино
там шалит:
Что ни
лента, то
оргазм!..
Светел
криминальный
разум,
Многогранен,
боевит!
Вуди
Аллена
плавник
Рассекает
гладь
баркасом -
Всем на
зависть
ловеласам
Не увял и
не поник!
(Между
нами, этот
Вуди -
Тот ещё
карась в
запруде!
Хоть и
вырос на
Талмуде,
Но -
проказник,
баловник…
Чуждый
хлебу и воде
он
Вечно
бегает по
девам,
И мудя
держать в
узде он
Не
приучен, не
привык…)
Впрочем,
кто ж его
осудит,
Кто
осадит,
приструнит?...
Там, в
прохладе
киностудий,
Всё блуждают…
то есть
блудят…
В общем:
бродят - думы
будят
Дивы с
ножками
Лолит
(Целлюлит
там не рулит,
Спину
там никто не
трудит…)
Когда мы
туда
прибудем,
Начудим,
наробингудим,
Всех
прижучим,
покорим,
Охмурим
их и окучим,
Наследим,
разгоним
тучи
(А скорей –
напустим
дым…),
Академикам
седым
И
актёрикам
дремучим
Станет
ясно, что мы –
луч-ч-че!
Что наш
фильм
сильней и
круче,
Что
дорогу –
молодым!..
И
умоется в
тоске
Звёздный
зал слезой
сырою!
Эти
Бонды и
ковбои -
Все у нас
на поводке,
На
крючке и на
леске!..
И взлечу
я налегке
(После
Хана – землю
рою!..),
И вручат
мне перед
строем
Не
блохарика в
мешке
(Что
случается
порою…),
А на
блюде, на
доске
- Вот вам
"замки на
песке"!!! -
Мне, как
главному
герою,
За
кинороман с
Горою -
Оскар с
"тяпкою"
златою
В
оттопыренной
руке!
Когда
кончится
шабаш,
И ко мне
вернутся
силы,
Для себя,
себя и милой,
Я
отгрохаю
шалаш.
Перекрою
(что за блажь!..)
Крышу
гнёздышка
(иль клетки?..)
Каннской
пальмовою
веткой,
Оскар – у
ворот, как
страж…
Эх, да
здравствует
кураж!
Лёха,
Оскар будет
наш!!!
А ведь я был
уверен на
сто… нет – на
двести процентов,
что никогда,
НИКОГДА я не
пойду вновь
на Хан-Тенгри
по тому же
самому
маршруту. Я,
вообще, не
склонен
повторять
горы, страны
и маршруты, и
никогда не
понимал
людей, проводящих
свой отпуск
из года в год
в одном и том
же районе, не
важно - горном
или
курортном.
Какого черта,
когда Мир велик
и
разнообразен!..
Так я обычно
думаю, хотя, кто
знает, быть
может именно
в таком вот
географическом
непостоянстве
и проявляется
некоторая
поверхностность
чувств и
неглубина
пристрастий
человека...
Кто знает...
Так вот, тот,
кто рискнул
бы поставить
все фишки на
моё
возвращение
на Северный
Иныльчек,
смог бы
изрядно
поправить
своё материальное
положение.
Дело в том,
что я получил
предложение,
от которого
невозможно
отказаться. Я
слышал, что
такие случаи
бывали и
прежде, читал
об этом в
неких
книжках, которые,
во всех
прочих
отношениях,
не грешили
против
правды жизни,
и даже видел
фильм на эту
тему, который
назывался
«Непристойное
предложение»
с Деми Мур и
Робертом Редфордом
в главных
ролях, но
лично со мной
ничего
подобного
прежде не
случалось. И
хотя суть
предложения
в моём случае
принципиально
отличалась
от того, что
предложил герой
Редфорда
героине Мур,
в главном оба
случая были
схожи – это
были
предложения
от которых
очень трудно,
почти
невозможно
отказаться…
А ведь
всегда
прежде я
рассчитывал
только на
себя, никогда
манна
небесная не
падала на
меня с неба, и
в моём
возрасте нет
уже никаких
оснований
полагать, что
это
состояние вещей
может
измениться. У
меня складывалась,
почти
сложилась
уже честная
козерожья
судьба –
никаких
поблажек и
подарков
свыше, что
заработаешь –
то и съешь…
Сейчас я
загляну в
свою почту…
Это случилось
9 мая - аккурат
в День
Победы.
Победы не
моей – я-то как
раз в те дни
терпел
поражение на
всех фронтах.
Я смирялся с
очередным
неполучением
незаработанного
в особо
крупных
размерах.
Отполыхавший
пожар был
таких масштабов,
что смягчать
его
последствия
мне
удавалось
лишь реками
бренди да
ворохом стихов
Бродского,
довольно
депрессивных
по своей природе,
но
приводящих
уже слегка
подогретого
человека в то
воистину
божественное
состояние,
когда
томительный
спазм схватывает
горло и
холодеют
кончики
пальцев. В общем
же, в
свободное от
Бродского и
от бренди
время, я,
фигурально
выражаясь,
брёл по выжженной
пустыне,
ковырял золу
на пепелище и
– безо всякой
уже
«фигуральности»
- пялился в окно
на
захламленные,
всё ещё
непривычные
задворки
моего нового
обиталища.
Моим
обычным
состоянием
на тот момент
были
стиснутые
зубы: тянуть
лямку,
прорастать, пускать
корни и
побеги, жить
дальше. Моим
главным ощущением
было
ощущение
приобретенной
свободы, за
которую было
заплачено
втридорога,
но которую я,
беспросветный,
готов был тут
же и отдать с
приплатой,
если бы только…
Впрочем, о
том ли этот
рассказ, да и
дело прошлое,
хоть и
недавнее…
Похоже, – и не
я первый это
заметил, –
когда ты достигаешь
дна
жизненных
неурядиц,
когда жизнь
изрядно
отмолотила
тебя по башке
и отхлестала
по мордасам,
а все счета
уже уплачены
тобой со
всеми
надлежащими
процентами,
там, наверху, дают
отмашку, и ты
голенький,
дрожащий, как
осиновый
лист,
вбрасываешься
на новое поле
игры, где
тебе даются
новые шансы и
новые возможности
(«Терминатор».
Фильм
первый).
Приходишь
ты, скажем,
утром на
работу, включаешь
компьютер,
поднимаешь
свой
неторопливый
«аутлук», мыча
себе под нос
что-то натужно
жизнеутверждающее,
и вместе с
обычной ежедневной
почтовой
трухой
оттуда
выпадает
следующий
бриллиант и
перл: «Мы
приглашаем
вас в проект…»
В письме я
величался
«профессиональным
и опытным
альпинистом»,
что сразу же
настроило
меня против
автора и всей
этой его
целлулоидной
затеи,
поскольку я
не люблю
явную, ни на
чем не
основанную
лесть.
Сперва, я
подумал, что
стал жертвой
глупого розыгрыша.
У меня,
насколько
мне известно,
нет явных
врагов и нет
друзей,
склонных к
такого рода
развлечениям,
но кто знает – люди
с годами
меняются,
люди
проявляют
себя порой
очень
странными и
неожиданными
существами…
Короткий
поиск в
«гугле»
убедил меня,
что, судя по
всему, я имею
дело с
реальными
людьми и с
реальной
затеей, но
тем страннее
- на фоне этих
людей и этих
имён – казалось
мне моё
собственное
участие:
ЗАЧЕМ Я ИМ
НУЖЕН?.. То
есть, зачем
им нужен
именно Я?..
«Зачем ты им
нужен?!» -
спрашивали
меня мои близкие
друзья,
которых – и
только их – я
посвятил в
свою тайну. Я
удивляюсь им
до сих пор!
Как могли они
не понимать,
что именно в
их устах эта
фраза звучит
особенно
оскорбительно…
Дети же мои,
напротив, не
удивились
происходящему:
они приняли
его как
должное, и их
удивление
относилось
лишь к тому
факту, что заслуженное
признание
искало их
отца так
неподобающе
долго…
Впрочем, по
мере того,
как я
утверждался
в реальности
затевающегося
мероприятия,
круг
посвящённых
расширялся.
Наблюдать
реакцию
знакомых
людей на
поразительную
весть о моей
неожиданной
кинематографической
карьере сделалось
на какое-то
время моим
любимым развлечением.
Когда я
говорил им,
не в силах при
этом
сдерживать
идиотический
смех, что некие
загадочные
субъекты
собираются
снимать меня
в кино, почти
все они
взглядывали
на меня
недоверчиво,
- со столь
много говорящим
непроизвольным
сомнением. И
только Шош,
блистательная
и
искромётная
Шошана, - секретарша
моего босса,
неувядающая
девочка в
пожилой
оболочке –
оценила меня
положительно:
- В
порнофильме,
что ли?
Впрочем, я не
уверен,
позволительно
ли мне считать
это комплиментом.
Я много
размышлял
над этим, но так
и не пришёл к
однозначному
выводу...
Одним
из первых
вопросов,
заданных
мною Лёше
(который на
тот момент
был для меня
Алексеем
Рюминым на
Вы), как раз и
был: «Зачем я
Вам нужен?», но
в менее
самоуничижительной,
конечно,
форме. Его
ответ я
проинтерпретировал
для себя
следующим
образом: их
фильму
требуется
эдакий
мудрый
евреище с
глазами
сенбернара,
который
будет
беседовать со
всеми этими
разношерстными
иностранцами,
тусующимися
на Хан-Тенгри
в пик сезона, а
в свободное
от бесед
время
наговаривать
в камеру
что-то умное,
доброе,
вечное,
что-то о всепобеждающей
дружбе
народов, о
горе, как о Вавилонской
Башне,
сплотившей
представителей
разных
национальностей
ради достижения
единой
Великой Цели
и прочие
возвышенные
благоглупости...
И если вы
думаете, что
заслышав эти
завораживающие
слова: «кино»,
«главный
герой», а
особенно -
это звонкое,
ложащееся на
стол
заветным
орлом, слово
«спонсоры», я вытянулся
по струнке,
как крыска
перед флейтой
Крысолова, вы
плохо меня
знаете. В
некоторых
вопросах я
могу быть на
редкость
упрямым
ослом и
ношусь со
своим
«реноме» и
своими
принципами,
как старая
дева со своей,
неясно от
кого
оберегаемой,
честью.
Во-первых,
меня
тревожило
смутное
ощущение,
будто я пешка
в непонятной
мне партии – некая
потеря почвы
под ногами
человека, привыкшего
к участию
исключительно
в затеях
собственного
приготовления.
Во-вторых – и это
главное –
сама идея
фильма
показалась мне
банальной и
неубедительной.
Я подумал: "всё
это - какой-то
фиговый
листок,
прикрывающий
неведомые
мне
закулисные
интересы"...
Ну что ж, надо
сказать я
добросовестно
сражался за
свою честь и
сделал всё от
меня зависящее,
чтобы меня не
взяли на
разгорающийся
праздник
жизни: я хочу
остаться
дома, сидеть
мордой в
угол, и
засуньте
себе в зад вашу
хрустальную
туфельку!.. Я
такой! Я бываю
таким, и
сейчас я
именно
такой!..
Прежде
всего, я
предупредил
продюсера, а
затем и
режиссёра,
что я
катастрофически
не фотогеничен,
боюсь
видиокамеры,
как огня, а будучи
волею случая
заброшен на
сцену в свет
софитов,
теряю два
фута росту,
костенею
языком и
стекленею
взглядом. Мне
тут же дали
понять, что
будь я даже
гений
чистого
уродства,
помесь
Квазимодо с
Герасимом, и,
более того, –
Эсмеральды с
Муму, именно
меня они
хотят видеть
в главной
роли в своём
альпинистском
блокбастере.
Я наглел от
попустительства.
Я сказал, что
весь этот
проект
интересует
меня только в
том случае,
если мне
будет
предоставлена
полная
свобода
язвительного
слова, даже
если слово
это выйдет
вразрез с
генеральной
линией
режиссёра,
продюсера и
всей
съёмочной
группы,
притом я
честно
предупредил,
что «дружба
народов»
будет осмеяна,
Гора опущена,
а от
Вавилонской
Башни не
останется
камня на
камне!.. А ещё –
деньги вперёд,
поскольку у
меня
финансовый
кризис на
почве
кризиса в
личной жизни
и материальные
трудности на
почве
душевных переживаний...
Думаете
меня погнали
взашей?
Вымели поганой
метлой?
Ничего
подобного!..
Меня
зауважали и
возлюбили
пуще
прежнего.
Меня хотели
страстно и
неудержимо.
Скажите мне,
смогли бы вы
сами устоять
против
такого, всё
сметающего
на своём
пути,
любовного натиска?..
Слаб человек,
и если уж
провидение решило
накормить
его, ему
придётся
жрать манну
небесную, под
какой бы
навес он от
неё не
прятался...
Выброшенный
в окно
выигрышный билет
непременно
вдует
сквозняком
обратно...
Последнюю
жирную точку
в истории
моего сопротивления
поставил
верный друг
Лёньчик:
«посмотри на
себя со
стороны» -
укорял он меня
– «это же
просто
смешно
видеть, как
ты строишь из
себя
девочку...»
Он говорил
недоуменно,
он глядел на
меня, как на юродивого,
как на
досадное
явление
природы:
«тебе
предлагают
бесплатную
поездку на Хан,
участие в
съёмке
фильма, массу
интересных
знакомств и
перспективу,
которую
трудно даже
вообразить...
И ТЫ ЕЩЁ
СОПРОТИВЛЯЕШЬСЯ?!..»
Фотографической
мощи вспышка
осветила всё
вокруг, и в её
неумолимом
свете я узрел
себя самого в
свете
истинном:
запущенного
в смысле
жизни личной
и социальной,
бреющего
серыми
утрами
физиономию
Пьеро в сиротливом
зеркале,
горбящегося
за щербатым столом
в
подвального
интерьера
пристройке,
прихлёбывающего
из стакана
копеечный
бренди...
Лёньчик прав:
разыгрываю
из себя
невесть что и
ворочу рыло
от тарелочки
с голубой каёмочкой.
Добрые люди
волокут меня
из свинарника
в калашный
ряд, а я, урод,
упираюсь всеми
четырьмя
копытами…
Всё! Кончено!
На хрен!..
Решительно и
бесповоротно
я отметаю в
сторону все
сомнения, все
посторонние
соображения,
все
сложности,
которые сам
себе напридумывал,
все барьеры и
все
баррикады, которые
возвёл...
Отныне и
вовеки веков
на моём щите
будет
начертано
огненными
буквами: «То,
что
предлагает
тебе жизнь, -
бери не раздумывая!»
Я начинаю
новую жизнь,
которую
отыграю, как лёгкую
музыкальную
пьесу: с
листа, не
заучивая ни
единой ноты,
безоглядно и
виртуозно импровизируя,
дирижируя
себе
белоснежной
перчаткой
дуэлянта...
Я гуляю по
Москве так,
как не гулял
никогда в
жизни – в
полнейшем
безотчетном
одиночестве.
Я обвёл круг
по Садовому
Кольцу и не
торопясь
заштриховываю
его, отдавая
предпочтение
улицам
знакомым и
ностальгическим.
Не в том
смысле, что в
них
протекала
моя
молодость –
она
протекала
совсем в других
местах и на
иных широтах,
– а в смысле
культурном и
литературно-историческом.
Я прогуливаюсь
не по
переулкам,
площадям и
проспектам,
но по
неподвластным
Альцгеймеру
бардовским
песням, по
страницам
книжек, залистанных
насмерть в
годы
щенячьей
юности, по
«Москва
слезам не
верит», по «… а
сейчас Горбатый!..»
– по всему
этому
пёстрому
конгломерату,
который
оставляет за
собой река
времени, и,
судя по
неожиданному
обилию и мощи
обнажившихся
залежей,
устье моё уже
недалеко – не
пора ли
готовиться к
впадению в прозрачные
заливы
вечности?..
Я питаюсь
блинами и
наблюдаю
жизнь столицы,
занося
приметы
нового и
печати
старого в маленькую
оранжевую
книжицу,
предвидя, что
пока я
продерусь к
своему
тихому
писательскому
досугу через
тернии
бытовухи и
адские кущи
рабочих
будней, от
ярких моих
впечатлений
останется
лишь
выгоревший
до полной
фригидности
черно-белый
дагерротип
(так оно и
вышло).
Москва
поразила
меня в
некоторых –
сразу в нескольких
- аспектах.
Прежде
всего, в этой
северной,
якобы,
столице,
заморозившей
в своё время
насмерть не
одно
иноземное
войско, было
душно и
потно, как в
летнем
Тель-Авиве: хотелось
раздеться до
пупа, как
минимум, хотелось
принимать
душ наружно и
мороженное
внутрь,
хотелось
опахала.
Затем,
поразил меня
имеющийся
тут в наличии
и наличность
явно имеющий
человеческий
материал.
В Москву
стекается
всё лучшее,
что есть в России,
и это сразу
заметно.
Лучшее в
плане эволюционном,
натурально-историческом,
дарвиновском,
я бы сказал, -
всё
энергичное,
смышленое,
зубастое, на
худой конец –
длинноногое…
Всё, что
только есть в
этой стране
конкурентоспособного,
всё, что
обладает
товарной стоимостью,
центростремится
в эту гигантскую,
беспокойную
воронку.
Новомосквичи
молоды,
стройны,
целенаправленны.
Новомосквички
половозрелы
с рождения,
ослепительно
белокуры,
незаморочены,
длинноноги,
голубоглазы
и полногубы…
Непривычный
к столь плотным
красотам
залётный
гость
петляет, шалеет,
сшибает
столбы и
мусорные
баки, подвергает
себя
опасностям
ДТП, и т.п., и т.д. …
Одинокими
вечерами он
рассеян,
задумчив и
подолгу
массирует
затекшую за
день шею.
На Арбате
дождь.
Перемещаюсь
короткими перебежками
от лотка к
лотку,
владельцы
которых не
рискуют
шугануть
потенциального,
хоть и
маловероятного
покупателя.
Арбат не шумен,
малолюден
против
ожидаемого,
заматрёшен
сверх всякой
меры.
Промотав на
нём излишек
свободного
времени,
ныряю в Метро
и выныриваю
на Цветном
Бульваре – а
вот и клоуны,
которые остались!..
- где у меня
назначена
встреча с моей
киногруппой –
волнующий
момент
первого
знакомства с
людьми, с
которыми мне
предстоит
провести
далеко не
медовый
месяц на Северном
Иныльчеке.
Историческая
встреча была
назначена в
Кафе Хауз.
Запомните
это место:
Кафе Хауз на
Цветном
Бульваре. Не
позжее
второго
пришествия
там появится
соответствующая
мемориальная
табличка.
Я появился
за пять минут
до
назначенного
срока и
оказался
третьим. За
столом уже
сидел
мгновенно
узнанный по
фотографиям
(о, Одноклассник.ру!..)
Алексей
Рюмин -
главный наш затейник
и проказник, автор
проекта и
продюсер. Рядом
с ним был
опознан -
большей
частью
методом
исключения -
оператор
Валерий
Багов, который
показался
мне
человеком
серьёзным, уравновешенным,
отстранённым,
себе на уме.
Похож на
нашего
премьера
Эхуда
Ольмерта, но
не в пример
здоровее
лицом и
телом. Он
присматривался
ко мне с
прохладным,
несколько ироническим
любопытством.
Лёша Рюмин – в
процессе
переписки мы
довольно
быстро
сошлись с ним
до
приятельской
фамильярности
– был
приветлив,
лёгок в
общении,
широко и
открыто
улыбчив.
Скажем прямо
– лёгок и
улыбчив не
по-российски,
не по
церковно-славянски…
Ничего
таёжно-каменноугольного,
косолапого,
бурильско-норильского,
ничего, что
дало бы мне
повод
самодовольно
упиваться
оправдавшимися
предубеждениями…
Четвёртым
появился
Александр
Коваль – ещё один
высотный наш оператор.
Когда я
наводил
интернетные
справки о
своих
будущих
подельниках
и соучастниках,
я обнаружил
себя в почти
легендарной
компании:
безумная
эпопея с
эльбрусским
«лендровером»,
трагичное
восхождение
на Лхоцзе по
Южной стене…
Забавной
особенностью
назревающей
киноэкспедиции
было то, что
её «спортивный
состав» - а это,
собственно, я
да Лёша – заметно
уступал во
всех
горовосходительских
качествах
кинооператорам,
хотя обычно
дело обстоит,
как я
понимаю,
совсем наоборот.
Небезызвестный
даже мне,
заморскому,
Александр
Коваль
выглядел
бородатым
отшельником:
отрешенный
взгляд,
благородная, уважающая
себя
бомжеватость...
В процессе обсуждения
животрепещущих
аспектов
экспедиции,
он оставался
хмур и
задумчив,
прочёсывал
пальцами
серебристую
чащобу бороды,
иногда спохватывался
и оживлялся,
но если и
имел что
сказать – нёс
молча, не
расплёскивая…
Ближе к концу
обсуждения,
видимо
придержав
главное
напоследок,
он спросил
Лёшу
серьёзным,
раздумчивым
тоном: «А как
там с пивом в
базовом
лагере?
Снабжается
ли он пивом?»
Вопрос был
задан именно
так – с
раздумчивыми,
значительными
интонациями
бывалого человека.
Какое-то
время мы
общались
вчетвером, но
беседа не
клеилась,
рассыпалась,
лишенная направляющего
стержня, -
«подвисала»,
если перевести
это на язык
компьютерных
технологий.
«Где же Гоша?» -
периодически
вздыхал
Алексей
Рюмин, как бы
извиняясь
перед нами за
богемную
необязательность
отсутствующего
творческого
человека.
Когда
появился
Гоша –
Георгий, то
бишь, Молодцов
- нас сразу
стало вдвое
больше! Гоша
был шумен,
кудряв,
увлечён
собой и
кинематографом,
неотразимо
молод душой и
телом.
Говорил он
много и
вдохновенно,
черкал в
тетрадке и
зачитывал из
неё
избранные
места,
улыбаясь их
волшебной
замечательности.
Он говорил с
операторами
о ракурсах, о
кинематографическом
языке, о том,
что «брать»,
как «брать», и о
том, что «надо брать»…
Судя по
согласным
кивкам
головы, операторы
понимали
режиссёрскую
задумку. «Какой
славный,
должно быть,
фильмец
сварганят
эти ребята» -
подумал я,
расчувствовавшись
и потеряв на
некоторое
время свой
природный
язвительный
скептицизм.
И вот тут,
Гоша,
описывавший,
как именно мы
будем
снимать
различные
этапы нашего
восхождения –
надо будет
отснять и
это, и то, и ещё вот
это… - на
секунду
задумался и
жахнул из обоих
стволов
бронебойным
вопросом: «А,
кстати…
Сколько раз,
по-вашему, вы
сможете подняться
на вершину?..
Было бы
неплохо
отснять это в
разную
погоду, а
также -
проинтервьюировать
на вершине
различных
восходителей».
«Каждый раз
там ведь
будут другие
восходители…»
- добавил он
небрежно, как
бы демонстрируя
нам
недюжинное
владение обсуждаемым
материалом…
Повисло
долгое неловкое
молчание,
продюсер
нервно
хихикнул. «В
лучшем
случае – один
раз» - ответил
я, ощущая почему-то
лёгкое
злорадство…
На Цветном
Бульваре
тепло и сыро.
Бронзовые
клоуны с отполированными
до
новобранческого
блеска
носами
играют в
чехарду.
Парочка
перманентно
не
обременённых
заботами
молодых людей
- выходцев из
развивающихся
сов. республик,
медитирует
на лавочке.
Юрий Никулин
распахивает
перед
цокающими
мимо
весёлыми девицами
дверцы
своего
доисторического
авто, на переднем
номере
которого для
особо
сообразительных
так и
написано:
«Юрий
Никулин».
Куда пойти,
куда
податься?..
Чистые
Пруды чисты и
населены
непуганой водоплавающей
дичью.
Выводок
пушистых комочков
перекатывается
у перепончатых
лап мамаши,
пялящей на
меня озабоченную
черную
пуговицу.
Периодически
сеет
вразброд
пьяненький
летний
дождик, под
который сам
покорно
склоняешь
голову. Тихий,
безотчетный
восторг
бытия
наполняет
душу, ищет
выхода и
разделённости.
Отправляю
СМС-ку –
глупую,
ненужную… Давлю в
себе запоздалое
«зачем»… Идти,
идти, не
останавливаться,
не
задумываться,
не
оборачиваться…
Дальше - по
державным
проспектам и
окуджавным переулкам,
вдоль прудов
и каналов,
мимо многочисленных
отчетливо не
археологических
раскопов.
Москва
строится,
перетрушивается,
перекапывается
вдоль и
поперёк.
Хмурые землекопы,
числом более
полутора,
трудятся и в
будни, и в дни
воскресные.
Фасад
Большого
Театра
завешен
напрочь, театралы
отдыхают,
столица на
реставрации.
Присаживаюсь
у фонтана,
проявляю
досужий
интерес к
сегодняшнему
россиянину,
но не
вмешиваюсь, в
душу не лезу,
масел не
проливаю -
дьяволу
дьяволово.
Слева от меня
расположилась
Москва новая,
незнакомая:
журнальный
обложечный
мачо: решительно
молодой,
поджарый не
по нужде, продуманно
небритый,
тряпьё - от
кутюрье, в руке
что-то
глянцевое,
что-то для
мужчин, что-то
«фор-мэнное»…
Справа –
Москва
босяцкая,
совковая:
мужичок-нос
туфелькой…
Коротко
поскубан, в
«пинжачок» от
сельпо
закован, на
белёсой
дуре-губе сиротливая,
сломанная
сигаретка, на
коленях –
пластиковый
пакетик
первомайской
расцветки,
безнадёжно
выцветший, в
глазах – сто
дней до
получки…
В метро – три
девицы под
окном
последнего
прощального
вагона.
Первая -
давно и
прочно уже
царица:
кукольная
непроходимая
мимо блондинка,
с глазами
небесной
пустоты.
Вторая, центральная,
- стильная,
брючная,
небрежная, с
симпатичной
морщинкой в
уголке рта –
от привычки
то ли к
иронической
усмешке, то
ли к сигаретке
в тонких
пальцах – но
без когтя
этого
ястребиного!
–
подрагивающей.
«Зимняя
вишня»,
осколок
Монмартра на
московских
ничему не
верящих
тротуарах.
Ах, да… ещё и
третья: не
сразу на фоне
вагонной
стены
проступающая,
тихенькая,
белёсенькая,
в
беспризорные
босоножки
обутая, с противозачаточной
сумочкой меж
коленок, и, тем
не менее,
вечно
рожающая, но
не богатырей…
никогда, увы,
не богатырей…
А ещё, я
наблюдал
восхождение
четвёрки промышленных
альпинистов
по центру
северной
стены
старого
московского
дома. Дом был
пятиэтажный,
добротный, с
бровастыми
выразительными
окнами, и
расположен в
том самом
районе, где
незабвенный
Владимир
Семёнович
хранил свой
чёрный пистолет
вкупе с
семнадцатью
своими же
подростковыми
уличными
бедами...
Восходители
восседали в
специальных
подвесных
"седушках" и
обрабатывали
маршрут
приятной
глазу любого
гринписовца
салатной
краской. С их
беседок вместо
тривиального
скалолазного
металлолома
свисали
тяжёлые
заскорузлые
малярные
кисти и
небольшие
ведёрки с
краской. Это
было красиво
строгой
урбанистической
красотой, и я
достал
фотоаппарат
и сделал несколько
кадров.
Ближайший ко
мне
восседатель
склонился вниз,
рассмотрел
меня
настороженно,
как голубь-подранок
прогуливающегося
под его деревом
кота, затем
спросил с
перекатистым
уральским
говорком:
- Вы кого
фотографируете?..
- Вас!.. - говорю
я весело.
- А ЗА ЧТО?..-
озабоченно и
серьезно.
Минутное
замешательство
с моей
стороны, попытка
понять умом
Россию…
- Красиво
смотритесь!.. –
широкая,
доброжелательная
улыбка
человека
понимающего
и даже
причастного.
Удаляюсь, тем
не менее,
провожаемый
недоверчивым,
ничего доброго
не ждущим
взглядом…
Я живу на
Остоженке в
беспорядочной
старомодной
квартире,
потолки
которой
высоки, как
полуденная
небесная
сфера. Я,
изгой и приживальщик,
- незваный
гость
Евгения,
брата одной
моей
милосердной
сослуживицы,
приютившей
меня в беспризорную
минуту у
своего
московского
родича.
Евгений
похож на
Карла Маркса
и на библейского
патриарха
одновременно,
что, как давно
уже заметили
прозорливые,
не исключает
одно другого.
Вечерами, мы
ведём с ним
классические
кухонные
беседы:
ностальгические,
русско-еврейские,
с оттенком
так и не избытого
в московских
кухнях
шепотного
диссидентства,
а
прозрачными,
не
запятнанными
заботой
утрами, я
подолгу
валяюсь на
замусоленном
хозяйскою
кошкой
диване и
пялюсь поверх
культурных
залежей на
письменном столе
Евгения в
высокое окно,
задёрнутое
волнительной
полупрозрачной
занавеской, -
на жёлтый дом
напротив, на
тяжёлый
вынужденный
полёт
сизарей. На
Женином
столе –
приятный
щемящий
декаданс:
пузатая
бутылка CHIVAS
бросает
янтарную
тень на
потёртую
«теорию множеств»
некоего
сумрачного
германского
гения, рядышком
– «Расписание
лекций в
здании
Колеля (Старая
Синагога)»,
кое-что
аккуратно
отчеркнуто. В
четверг в
«Колеле»
будет
блистать перлом
и петь лазаря
Лазар Берл –
главный раввин
России (что
само по себе
звучит смешно
и
двусмысленно,
замечу в
скобках).
Некоторое
время
размышляю
над
загадочным
словом
«Колель» - не
еврейского
ли корня
«коль» («всё») это
слово?
Завтракаю в
обществе
персидской
кошки – мягкого
внимательного
создания с
незавидной
бабьей
судьбой. В
попытке
совместить
телесно
приятное для
неё с финансово
полезным для
себя самого,
Евгений отыскал
ей
породистого
кавалера –
шикарного
перса с
родословной
подлинного
шаха, но не
сошлись в
цене. Ночь с
пушистым
жиголо шахских
кровей стоит
трёхзначную
сумму в долларах,
а котят ещё
надо
дождаться,
вырастить, да
найти на них
небедных
покупателей…
Под впечатлением
от
печального
Жениного
рассказа,
долго чешу
невесту под
плюшевым
подбородком,
извлекая из
неё
вибрирующие
стоны
нерастраченной
женской
нежности.
Съеденный
на завтрак
сыр-коттедж
местного
производства
оставил меня
в
ироническом
недоумении. Накануне,
забежав
наспех в
небольшой
супермаркет -
забавное
словосочетание!..
- прихватил
то, что
показалось
узнаваемым и
желанным
после двух
дней
подножных
кормов.
Вместо однородно
гранулированной
приятной на
вкус и на
запах
привычной
творожной
массы обнаружил
неаппетитную
субстанцию,
могущую заинтересовать
разве что
геолога.
Раскопал три
отчетливых
слоя – «страты»,
как называют
это
профессионалы.
Пробив
плотную корку
серых окаменелых
глин,
добрался до
слоя
конгломерата:
прессованной
гальки,
отдалённо
напоминающей
заявленный
на упаковке
продукт. Под
ней раскопал
придонный
пласт
обычного
сельского
творожка,
выпавшего в
осадок из
незадавшегося
заморского
изделия. Скушав,
задумался о
дате его
производства,
озабоченным
глазом
обшарил
упаковку,
нашёл и
охнул: 06.12.07. Проклял
владельца
«супермаркета»
и зауважал производителя
коттеджа: для
молочного
продукта
полугодичной
давности, он
обладал из
ряда вон
выходящими
вкусовыми
качествами…
Пережив
первый испуг,
подумал,
решительно
не поверил,
внимательно
перечитал
три раза,
понял!.. Не 6-е
декабря 2007-го
года, а 6 утра
12-го июля года
нынешнего…
Владелец
магазина реабилитирован,
производитель
вернулся на честно
заслуженное
место - у параши.
Всё! Более -
никаких
коттеджей,
никаких местных
попыток
наладить у
себя «европу» –
только блины!
Два раза в
день я
питаюсь
блинами, чаще
всего утром и
вечером.
В этом месте
некий
фанатик гор,
любитель аскетической
горной
героики,
определённо
возопит: «ну,
где же горы,
Ян Рыбак, где
обещанное и
заявленное:
где суровые
кручи
Тянь-Шаньские,
где факелом
полыхающий в
закатных
лучах неукротимый
Хан-Тенгри?...
Задрал ты
нас, любезный,
своими
блинами!..»
Я отвечу ему
не сразу. Я
проскользну
отрешенным
взглядом
поверх
взъерошенной
мальчишеской
головы его и
рассеянно
пробормочу:
«горы, да, горы…
я скушал горы
эти блинов за
четыре московских
дня,
наполненных
кружением и
созерцанием…»
Давайте же
поговорим
ещё немного о
блинах,
молодой
человек.
Горы, в
сущности, для
того и
существуют,
чтобы
подчеркивать
и оттенять
вкус блинов,
а если вы со
мною не согласны,
то вы, видимо,
не всё ещё
поняли о горах.
И о блинах,
разумеется…
Московские
блины
пекутся в
небольших
уличных
лотках, -
прямо на
ваших глазах
и в соответствии
с вашим
заказом.
Сдобные руки
лоточных баб
раскатывают
тесто,
промазывают
его слоем
выбранной
вами начинки
и ловкими
экономными
движениями –
раз, два, три!.. –
сворачивают в
упитанный
хорошо
промасленный
блин, точно
младенца
пеленают…
Каждый раз, я
подолгу
читаю список
начинок,
который
ровно вдвое
длиннее
американской
«Декларации
Независимости»,
и к моменту,
когда
подходит моя очередь
едва успеваю
выбрать, а
иногда и не успеваю,
и тогда
лоточная
женщина
смотрит на
меня с
раздраженным
нетерпением,
смиряемым
лишь
благородной
сединой моих
висков да нездешней
неторопливой
мягкостью
обращения...
Московские
блины бывают,
если
восходить от
простого к
сложному: с
ничем, со
сметаной, с
творожком
обычным, с
творожком
сладким, с шоколадной
пастой, с
голландским
напрочь
изрешеченным
сыром, с
ветчиной,
гибридные: с
ветчиной и
сыром,
склеенными
вместе в греховном
союзе, с
курятиной, с
лесными грибами,
с мёдом, с
ягодами, с
имбирной
начинкой и с
начинкой из
сухофруктов,
со старославянской
рыбой
севрюгой, с
красной
икрой и,
наконец, блин
«Богатырский»,
многослойный
и
навороченный,
– наш русский
ответ
«Большому
Маку»…
Один из дней
я посвятил
московским
пригородам-лесопаркам.
После душной
Москвы, разогретой
страстями
человеческими
до невыносимого
градуса,
прохладное
ясноокое
Коломенское
светлит
сердце и
радует глаз. По
нетоптаным
изумрудным
лугам бродят
стада
белоснежных
церквей,
колокольни
клонятся
навстречу
ветру и
облакам и
роняют наземь
свои
колокола.
Юные
художницы,
разметав
вкруг себя
мольберты и
мелованные
листы, хмурят
бровки в
попытке
передать
неуловимое.
Подмосковная
природа
рисована
акварелью, что
особенно
заметно
глазу,
привыкшему к
плотному,
маслом
писанному
левантийскому
полотну.
Калина
красная,
шукшинская
обрамляет
памятники
зодчества,
сработанные
без единого
гвоздя,
поскольку –
белокаменны…
Невозможно не
фотографировать,
невозможно
не плакать над
нафотографированным…
Большей
частью,
Коломенское
населено едва
заглянувшими
в этот мир
младенцами
да стоящими
на его пороге
лицом к
выходу
стариками. В
будень и тех,
и других не
много: одна
бабуля на
гектар богомольного
пространства,
один
младенец на километр
колясочного
пробега. Я
подолгу наблюдаю,
как в
прозрачных
лиственных
аллеях
молочные
мамаши
беседуют со
своими колясочками,
укачивают
невидимого
собеседника
на мягких
рессорах,
предлагают
ему белую
грудь, слегка
прикрывшись
от
завистливого
проходимца
кружевной
полою блузки.
Строгий окладистый
дед ковыряет
листву
коренастой
тростью,
трусит
деловитая
собака, тряся
колтунами.
Меня
обволакивает
светлая
ностальгия
по чему-то,
никогда не
случавшемуся
в моей жизни,
по кому-то
томительно
необходимому,
никогда не
оказывавшемуся
со мною
рядом. Я
присаживаюсь
на
почерканную
подростковым
ножиком
лавку, и у
самых ног
моих
слетевший с
клёна
холёный
голубь
кружит
напористый
танец вкруг
изнеможённой,
заранее
сдавшейся
голубицы.
Я стал
чувствителен
к
одиночеству,
как становится
чувствителен
к холоду
единожды обморозившийся.
На
московских
проспектах мне
верилось в
любовь:
скорее
случайную и мимолётную,
чем вечную,
скорее
физическую, чем
духовную и
душевную… а в
Коломенском
верится лишь
в молчаливые
посиделки на
лавочке, в
светлую
старость у
полупрозрачного
оконного
пузыря, в
запотевший
графин на
кружевной
застиранной
салфетке.
Пытаясь
сейчас,
спустя год
после
окончания нашей
киноэпопеи,
реконструировать
на бумаге
характеры и
события, я
понимаю, что
многое, увы,
утеряно
безвозвратно…
Так что же мне
делать?
Покорно
опустить
руки,
отодвинув в
сторону
истекающую
желанием
клавиатуру?
Кормить тебя,
дорогой мой
безответный
читатель,
тощей
соломкой
строгих
фактов,
которые, по
большому
счету, так ли
важны тебе,
не имеющему
возможности
их проверить?
Нет, нет и нет –
я выбираю
иной путь: я
дам себе
волю, - я распущусь
и
распоясаюсь:
я распахну
шлюзы своей
фантазии,
дабы
необузданные
потоки её
нахлынули и
заполнили
собою пересохшие
провалы
памяти...
Поскольку
рассказ мой
населён не
какими-то
выдуманными
персонами и
фантастическими
персонажами,
а вполне
конкретными,
зачастую
серьёзными,
известными и
уважаемыми людьми,
я заранее
извиняюсь
перед ними за
фразы,
которых они
не произносили,
улыбки и
проклятия,
которых не
роняли, жесты
и поступки,
которых они
за собой не
помнят.
Отнеситесь к
этому
рассказу с
юмором и
всепрощающим
пофигизмом,
поскольку автор
его
доброжелателен
вообще и к
вам в
частности.
Надеюсь
также на то,
что и для вас
этот год не
прошел
безнаказанно,
а потому,
прежде чем
разразиться
праведным
«как он себе
это
позволяет!..»,
вы будете
долго и задумчиво
чесать
затылки в
попытке
понять было ли,
не было ли… В
некоторых
особо проблематичных
для меня
случаях я,
возможно, изменю
ваши имена и
фамилии, но
всегда приятно
и созвучно,
не обидным
образом, - так,
что вы не
только
узнаете себя
с радостью,
но, вероятно,
захотите
поменять
свои
настоящие имена
на мною
придуманные.
Да и относительно
себя самого я
допущу
некоторую вольность,
смешав
времена и
события - эти
краски в
палитре
писателя -
таким
образом, что
не отличите
вы правду от
вымысла, и,
следовательно,
оба зайца
будут
уложены
единым выстрелом:
рассказ не
потеряет в
живых кровоточащих
подробностях,
а я избегну
неприятного
мне
излишнего
самообнажения,
оставаясь
как бы в
полупрозрачной
душевой
кабинке.
Вообще же,
проблема эта
не нова и
известна многим
пишущим
автобиографические
опусы, путевые
заметки и
прочие
литературные
тексты, в
которых
фигурируют
живые
конкретные
личности,
зачастую (и
это самое
трудное!)
хорошие
приятели и
друзья
автора, о
которых бывает
просто
невозможно
написать то,
что ты думаешь
о них на
самом деле,
ибо в пустыне
останешься…
Если же
писать о них
корректно, гладить
по
шелковистой
шкурке и
величать «афроамериканцами»,
то будет ли
это интересно
потенциальному
читателю,
живой и голодный
ум которого
жаждет остро
заправленного
блюда,
кровавого
бифштекса, а
не жидкой овсяной
кашицы. Да и
мне самому
скучно и противно
такое
дешевое
кашеварство –
тьфу!..
Сходил я с
друзьями на
пик Ленина в
недалёком 2006-м.
Восхождение
было простым,
успешным, без
достойных
упоминания
приключений.
Погода
баловала,
здоровье не
подвело, ну а
в остальном –
обычное
поливание
потом
безбрежных,
снежных,
безнадежных…
Как осенний
грипп: тяжело
и противно,
но, в общем,
без осложнений…
Отношения с
принимающей
стороной не
сложились, и
впервые в
жизни,
вернувшись с
горы, я увяз
не в обычных
сладострастных
забавах:
разборе
фотографических
завалов и тканье
словесных
узоров, а в
склочной и
мерзостной
разборке,
изрядно
омрачившей
мне удовольствие
от удачного
восхождения.
Многочисленные
друзья, в
компании
которых я покорял
«самый
доступный
семитысячник
мира»,
требовали от
меня
летописи,
живого и красочного
полотна
наших побед и
поражений, а
я не находил
в этом
мероприятии
ничего, на
чем не скучно
было бы
задержаться
глазу.
Ничего, кроме
людей. Их
самих – моих
друзей и
приятелей. Я
люблю их
всех, ей богу,
и отношусь к
ним просто и
естественно,
принимая их со
всеми их
недостатками
(за теми
нередкими
исключениями,
когда
достали,
блин, и сил моих
больше нет!..),
но глаз мой
поражен и
отравлен
осколком
дьявольского
зеркала, и не
только
примечает
всё забавное,
земное, неловкое
– то есть:
простительное,
но неудобопроизносимое
– в их
характерах и
повадках, но
только это и
находит
интересным и
стоящим
переноса на
бумагу.
Когда я
поделился с
Лёньчиком,
дольше прочих
не
оставлявшим
попыток
усадить меня
за письменный
стол, своими
сомнениями,
он ответствовал
мне с оттенком
непоколебимого
горского
превосходства:
«Яньчик, меня
не может
обидеть
правда, и я
уверен, что
любой, кто
понимает
юмор и не чужд
самоиронии,
всегда будет
относиться к
твоей
писанине с
пониманием…»
«Можешь пинать
меня
абсолютно
безбоязненно…»
- добавил он
добродушно и
снисходительно.
Ну что ж,
Лёньчик,
пришло время,
и момент истины
наступил:
здесь и
сейчас я
расскажу всему
альпинистскому
сообществу,
кто ты есть на
самом деле, и
да поможет
тебе твоё
чувство
юмора!..
Шучу я,
Лёньчик,
шучу… Исписав
три страницы,
сломал я перо
и сжевал
предательскую
бумагу, и не
была
написана
повесть борьбы
и побед
наших, и пик
Ленина, как
Титаник по
сей день
продолжает
погружаться
в мраморные
глубины
невозвратного
прошлого…
Можно я
начну из
середины? То
есть не
совсем уж из
середины, но
и не с самого
начала.
Обойдёмся на
этот раз без
традиционного
«до-ре-ми» и
попытаемся
сбацать
что-нибудь
живое и
весёленькое –
эдакую
«Мурку» от повествовательного
жанра, - где
нужно, заглядывая
и в начало, но
лишь где
нужно и лишь
тогда, когда
само на язык
запросится.
Таким
образом, мы
обойдём
молчанием и
посольские
мои
мытарства в
Алматы, и
Каркару, в которой
мало что
изменилось с
моего предыдущего
наезда, и
неизменно
драматичный
вертолётный
десант на
Северный
Иныльчек.
Я начну
горную часть
своего
повествования
сдержанной
сценой,
кинематографически
наглядной, - в
духе и в
струе нашей
главной экспедиционной
задачи:
Холодно, как
в морге.
Брезжит
жидкое,
зевотное
утро, в
палатке-столовой
морозная
тишина, на
белеющей в
полумраке тарелке
– пластинки
сыра, бурые
шайбы колбасы,
хлеб без
счёта и
наколотое
ломиком маслице.
Хмуро жуём –
скорее впрок,
чем по желанию,
– затем,
купаясь в
пару, греем
на огромной
коллективной
конфорке
соответствующих
объёмов
чайник, пьём
чай и
заполняем термоса
на выход.
Первый
выход
посвящен у
нас съёмке,
хотя, разумеется,
он имеет и
немалое
акклиматизационное
значение. В
наших планах
- подниматься
в
направлении
первого
лагеря,
сколько сможем,
снимая по
дороге всё,
что
шевелится и
просится в
кадр. Для
этого у наших
операторов
имеются две
видеокамеры:
не
разбираясь в
них
технически, я
назову их
«Большая» и
«Маленькая».
«Большой»
управляет
Валера: он
рисует ею широкоформатные
полотна в
духе
Бондарчука, а
также
прорисовывает
многозначительные
детали: зуб
кошки,
впивающийся
в
беззащитное
тело льда,
снежинку,
тающую на
пока ещё
тёплой щеке
альпиниста,
его щурый
бывалый глаз
и
потрескавшиеся
от неуёмной
страсти к
горовосхождению
губы… Валера -
оператор
статичный и
вдумчивый.
Александр же
наш Коваль –
подсматривает
и
подстерегает,
вьётся
вокруг и
жалит осою,
потому и
камера
дадена ему
маленькая и
лёгкая.
Чудесно
дополняют
они друг
друга, – Валерий
и Александр.
После
завтрака,
завершив
недолгие
приготовления,
мы с Лёшей
выдвигаемся
в сторону горы,
сопровождаемые
пристрастным
оком
видеокамеры.
Солнце
зажгло
вершину
Хан-Тенгри,
вспыхнула
она во мраке
утренней,
согревающей
душу папироской,
и вот уже
косые полосы
света побежали
по леднику,
расчерченному
ручьями-однодневками,
словно
ухоженный
огород граблями.
Стало тепло,
и мы всё чаще
останавливались,
чтобы извлечь
из-под
ядовито-зелёных
ред-фоксовских
курточек
очередные
слои флиса и
прочего, ставшего
избыточным,
текстиля. Я
окончательно
оттаял, под
мышками
побежали
весенние ручьи,
и я вспомнил,
как вчера
Лёша
предлагал нам
сходить в
баню –
"помыться на
дорожку", – а я
легкомысленно
возразил ему:
«Актёр должен
быть
красивым и
элегантным,
но хорошо пахнуть
он не обязан…»,
имея в виду
несовершенство
сегодняшнего
кинематографа
в плане передачи
запахов.
Вскоре
Валера
заприметил
живописную
ложбину
между двумя
внушительными
ледовыми
валами,
похожими на
арктические
торосы,
оплывшие к
исходу
полярного
лета. Ложбина
заканчивалась
ледовой ступенькой,
которая
требовала от
нас, альпинистов,
некоторого
действия,
внушительно
выглядящего на
экране, но в
действительности
доступного
любому
человеку без
ярко
выраженных
физических
недостатков.
Опытным
глазом
изучив сцену,
Валера упёр в
лёд острые
копытца
своей
треноги и
водрузил на
неё Большую
Камеру. Саша
маялся поодаль,
ловя «общий
план». Нас с
Лёшей
отогнали на
исходную
позицию, и я тщательно
осмотрел
себя на
предмет
расхристанности,
расхлябанности,
всяких шнурков,
ремешков и
хлястиков,
поскольку
знаю за собой
эту
неистребимую
интеллигентскую
безалаберность.
За долгие
полтора года
службы требовательная
к фасаду
военнослужащего
Советская
Армия так и
не смогла
научить меня молодецкому
ношению
униформы, не
говоря уже об
эзотерическом
обряде
наматывания
портянок...
- Мотор! –
Валера даёт
классическую
операторскую
отмашку, и я
делаю свой
первый шаг в
Большой
Кинематограф…
«Будь
осторожен,
тебя снимают»
– твержу я себе
– «смотри под
ноги, но
выпрями
спину! Шагай
решительно и
твёрдо, но не
споткнись!
Смотри на мир
с мягкой,
спокойной,
мужественной
улыбкой…»
«Стоп!.. Плохо…» -
говорит
Валера - «вы
должны идти
медленнее,
как можно
медленнее…
Медленно
идти,
медленно, с
видимым
усилием,
преодолеть
ледовую
ступеньку…»
Дубль два.
Иду медленно,
как тяжелый
водолаз по
океанскому
дну, зависаю
над
ступенькой
почти как
герой
«Матрицы»…
Никаких
спецэффектов
– натуральный
продукт… Уф-ф…
Удержался,
прошёл,
снято…
«Прекрасно!» -
Валера
оживлён и
заметно доволен
результатом –
«а теперь
Лёша с Яном
пройдутся
ещё раз, а мы
отснимем всё
это с расстояния
на длинном
фокусе…
Дубль три:
ложбина,
ступенька,
удержался, прошёл,
снято…
«Замечательно!
А теперь мы
снимем ваши
лица крупным
планом –
сосредоточенность,
напряжение,
сознание
возложенной
миссии…»
Дубль
четыре:
ложбина,
ступенька,
напряжение,
сосредоточенность,
сознание…
«Отлично!
Теперь нужно
снять ноги
крупным планом
– шаги
тяжелые, лёд
хрустит, снег
вминается!..»
Дубль пять:
ложбина,
ступенька,
хрустим, вминаем,
думаем
разные слова…
«То, что надо!
Осталось
только…»
Дубль шесть:
ложбина,
ступенька,
Валерина камера
в нижней
позиции у
самой тропы,
и если,
проходя мимо,
якобы
случайно
наступить на
неё тяжелым пластиковым
ботинком
фирмы
«Кофлак»,
мучительный
процесс
киносъёмки
закончится
сам собой…
Подойдя под
ребро пика
Чапаева, мы
делаем небольшой
привал: пьём
чай из
термоса и
бегаем «за
угол» морены,
пометить
накипевшим
серые
гранитные
плиты,
спаянные за
ночь
пузырчатым
одноразовым
льдом.
Затем мы
готовимся к
выходу на
снежный склон.
Валера с
Сашей
снимают, как
мы с Лёшей надеваем
кошки и
прилаживаем
разные
неизвестные
простому
кинозрителю
альпинистcкие
фенечки.
Я окидываю
взглядом
снежный
склон,
стекающий к
подножию
пика Чапаева
мягкими
шелковыми
складками,
скольжу
влево, к
вершине. Прохудившееся
одеяло
облаков
просвечивает
то тут, то там -
это солнце
пытается
нащупать брешь
и прорваться
в мир земных
созданий, осветить
и согреть
колбу, в
которой
обитаем мы, дерзкие
и
непоседливые
инфузории….
Я готов.
Начинаю не
спеша
набирать
высоту широким
размашистым
серпантином.
Острое ощущение
дежа вю
пронзает
меня в
очередной раз
- столь же
острое, как и
по прилёту в
базовый лагерь,
когда шагнув
с вертолёта
на бугристый
лёд я словно
отмотал
ленту на
четыре года назад.
Я пристально
вглядывался
в Хан-Тенгри
и тогда, и
много раз
позже,
пытаясь
отыскать в
его лике
следы
перемен,
подобные тем,
которые годы
оставляют в
людских
лицах, и
иногда он
действительно
казался мне
другим, хотя,
вне всяких
сомнений, за
прошедшие
четыре года
изменился
именно я –
никак не он...
Невозможно
войти в ту же
реку дважды,
и невозможно
дважды
прийти к
одной и той
же горе. Он
был
по-прежнему
могуч и
прекрасен, но
не вызывал во
мне прежних
эмоций: теперь
это была
просто
огромная
гора, на
которой мне
предстоит
много и
тяжело
работать. Она
не страшит
меня, как
страшила
когда-то, поскольку
я в точности
знаю, что
ожидает меня
на каждом из
её рёбер и на
любом из её
склонов, я
помню её
характер,
причуды и норов,
но зато она и
не влечет
меня, как
прежде. Я
знаю, что
сделаю всё от
меня
зависящее, чтобы
взойти на её
вершину, но
не слишком
огорчусь,
если мне это
не удастся.
Меня
интересуют
люди,
увлекает
водоворот
базового
лагеря,
занимает
процесс
создания фильма,
а вершина… в
ней не
скрывается
более тот
непреодолимый
магнит,
который
властвовал
когда-то над
моими
мыслями и
управлял моими
поступками.
Мы, я и
Хан-Тенгри,
смотрим друг
на друга со
спокойной
прохладцей. Я
не жду от
него ничего
хорошего и не
рвусь к его
вершине, но
намерен
извлечь из
этой экспедиции
максимум для
себя
полезного.
Мне чужда
надрывная
экзальтация,
с которой
зачастую
рассуждают о
восхождениях,
но я люблю
движение
вверх, люблю
ощущать
сопротивление
безучастной
материи,
люблю ту
благодатную
химию,
которая
протекает в
моём
организме,
когда я
преодолеваю
километры и
перетаскиваю
килограммы:
растворяются
шлаки, размываются
тромбы,
прочищаются
колючим ёршиком
сосуды,
лёгкие и
мозг…
«Дружище» -
говорю я сам
себе – «для
этого не
нужно
забираться в
такую даль и
в такую высь…»
«Ты просто
забыл, что мы
снимаем тут
фильм…» - отвечает
мне «дружище».
О
Красимире и
Лёшиных
водянках
На обед я
заявился в
приподнятом
настроении, с
радостным
интересом к
пище, а Лёша
был озабочен
и хмур. Он
морщинит лоб
и бережно
трогает кожу
головы, где у
него лопнули
мерзкие
водяные
пузыри,
заработанные
накануне в
процессе
беседы с
альпинисткой
Красимирой.
Тут я попадаю
в некоторое
затруднение,
поскольку
мне в равной
степени хочется
рассказать и
о Лёшиных
водянках и о
Красимире – и
то, и другое,
по своему
интересно и
примечательно,
– но начну я,
пожалуй, с
Красимиры,
оставаясь,
таким
образом, в
русле очевидных
причинно-следственных
связей, хотя
и опасаюсь
вовсе забыть
о водянках,
увлекшись
рассказом об
этой
неординарной
и увлечённой
женщине.
Боже мой, до
чего же
подходит ей
это имя: Красимира!
Красен мир
её, светел и
наполнен упоительным
воздухом
горних круч.
Её неправильная
милая
русская речь
журчит, как
полноводный
ручей в стране
вечной весны,
и, омываемые
его
неумолчным
потоком, тают
сердца куда
более
ледяные, чем
моё
собственное…
Когда
Красимира
разглагольствует,
а разглагольствует
она всегда, с
перерывами
на чуткий сон
много
путешествующего
человека, она
вдохновенна
и прекрасна,
и похожа на
искрящийся
неугомонный
фонтан –
спешащий
выплеснуть
накопленные
словесные
сокровища,
переливающийся
в спешке
через край...
О чем мы
только не
переговорили
с ней, пересекаясь
в
брезентовом
оазисе
столовой и на
замшелых
валунах меж
палаток в
редкие
погожие дни.
«Ах, я так
люблю
израильский
музыка!..» -
воскликнула
она при
первом
знакомстве,
всплеснув
тонкими,
сильными
руками
скалолазки. Я
посмотрел на
неё
настороженно
и немного удивлённо,
поскольку,
прожив в
Израиле 17 лет,
не знаю, что
можно было бы
назвать
«израильской
музыкой»…
- Какую
музыку ты
имеешь в
виду,
Красимира?
-
Израильский!
Такой
прекраснический
музыка, я
просто
влюблена в
нём!!!
- Ты имеешь в
виду
современную
эстраду, или старые
песни?.. Они
такие…
протяжные, -
похожи на
русские
народные…
Навеяны
ширью наших
бескрайних
средне-израильских
равнин…
- Это такой
музыка… – она
мечтательно
возводит очи
горе, тонко
улыбается и
прицокивает языком
– причудный
такой,
мелодический!..
- Ты хочешь, я
пришлю тебе
диск? Когда
мы вернёмся,
напиши мне
письмо с
точным
названием
этой музыки,
я найду и
пришлю тебе.
- Спасибо,
дорогой! Я
так
благодарственный
тебе за этот!.. –
Красимира
журчала и
переливалась,
и светилась
тёплым
оранжевым
светом.
«Какой
замечательный,
неиссякаемый
источник
интервью для
Гоши» -
подумал я
тогда и тут
же поделился этой
мыслью с
продюсером.
«Будем её
разрабатывать»
-
утвердительно
кивнул Лёша,
и, не откладывая
в долгий
ящик,
предложил
Красимире
явиться «на
пробы».
Излишне
говорить, что
Красимира –
личность
лёгкая и
общительная –
согласилась,
хоть и не без
некоторого
смущения
того самого
сорта,
который так идёт
любой
женщине.
Её партнёр,
строгий
мужчина с
былинным болгарским
именем
Георгий,
напротив,
сниматься
наотрез
отказался, и
быстро
скользнул по
скамейке
прочь от Красимиры,
как только
Валера
направил на
неё свою
видеокамеру.
В
противоположность
Красимире,
Георгий был
молчалив и
непроницаем, как
сейф с
государственными
секретами, -
живое
воплощение
компенсаторных
механизмов,
действующих
в природе.
В солнечное
послеобеденное
время,
расставив
видеокамеры
на марсианских
треногах и
выложив
привезенную из
Каркары дыню
на самом
видном месте,
мы ждали
Красимиру. За
неимением
более
значительной
роли в
намечавшихся
съёмках, я
вооружился
раскладным
нескладным
ножиком и порезал
чудный
азиатский
плод на
длинные, как
ладьи древних
витязей
бархатистые
дольки. Вообще
же, роль моя
во всём этом
деле
менялась неоднократно,
следуя
непредсказуемым
зигзагам
Гошиного
творческого
процесса. Как
я уже
упоминал,
изначально
мне была
отведена
роль самая
важная, можно
сказать
центральная.
Подразумевалось,
что я буду
кочевать из
лагеря в
лагерь
эдаким
мудрым
Будулаем (для
опоздавших
родиться: был
такой фильм о
цыгане
Будулае,
кротостью и
добротой
превзошедшем
все
известные
христианские
образцы, а премудростью
и пониманием
душ
человеческих
– иудейские) и
вовлекать
детей разных
народов в
вербальные
отношения, а
вечером, в
палатке,
разминая
неторопливыми
пальцами
серый
хлебный
мякиш под
тихое
ворчание
горелки,
делиться с
будущими
кинозрителями
нажитым за день
духовным и
интеллектуальным
добром. Что-то
такое в духе
моих же
собственных
«Негероических
записок», за
которые я, в общем-то,
и был призван
Гошей под
голливудские
знамёна…
Однако,
убедившись в
том, что мои
сентенции по
поводу
собственной
«некиногеничности»
не были
продиктованы
одной лишь
болезненной
скромностью,
он вскоре
перевёл меня,
а точнее - нас
с Лёшей, в
герои второго
плана. Мы
сделались
живыми
манекенами, на
которых
примерялись
и
демонстрировались
некомпетентному
зрителю
различные аспекты
альпинистского
бытия, как
симпатичные
и привлекательные,
так и
неприятные, и
даже мерзостные…
К тому же,
очень скоро
Гоша обнаружил,
что вместо
возвышенных
и
наполненных глубоким
смыслом
речей, я
изрекаю по
большей
части
саркастические
и колкие
реплики, а потому
микрофон
интервьюера
постоянно огибал
меня, как
опытная
сардина
акулу, несмотря
на то, что мне
было что
сказать, и я
периодически
намекал Гоше
на это.
К середине
экспедиции,
желая
извлечь из моего
писательского
потенциала
хоть какую-то
пользу, он назначил
меня
сценаристом,
что
показалось мне
странным в
виду того,
что первая
половина
фильма была
уже отснята,
а вторая –
беззащитна
перед сонмом
царящих на
горе случайностей
и
неподвластна
никаким
сценариям. Когда
Гоша уяснил
себе эту
очевидную, в
общем-то,
вещь, он
решительно
сорвал с моих
погон последнюю
лычку и
перевёл меня
из сценаристов
в авторы
закадрового
текста. Таким
образом, я
потерял
последний
шанс на
получение
заветного
Оскара –
пусть не за
главную роль,
так хоть за
лучший
сценарий…
Пока же, в
день
Красимириного
бенефиса, я
лишь ассистировал
операторам,
да нарезал
дыню ровными
дольками.
Красимира
была
прекрасна.
Держа
чуткими пальцами
длинную
сочную
скибку за
самые уголки
и тонко
улыбаясь, она
говорила о
той близости
к Космосу и
председателю
его, господу
Богу, которую
чувствуют
альпинисты
на этих
слепящих
невооруженный
глаз высотах.
О
непонимании
и глухоте
близких людей,
не могущих
понять и
разделить
эти возвышенные
переживания,
не умеющих
сочувствовать
этой
всепоглощающей
благородной страсти,
этому
единственно
бескорыстному
служению... Об
Одиночестве
и Единстве, о
Жизни и Смерти,
о
цикличности
Бытия!..
Голос её был
глубок и
переливчат, и
наполнен
нескрываемым
волнением, а
в черных
зеркалах её
защитных
очков
плавала
пузатой серебристой
рыбой северная
стена
Хан-Тенгри,
обрамлённая
по краю
Лёшиным
искривленным
отображением.
Съёмочное
пространство,
- этот
отчётливо воспринимаемый,
хоть и не
имеющий
физических
границ круг, -
было залито
солнцем, а
дыня полыхала
оранжевым
горном в тон
Красимириной
пуховке.
Прохладные
дуновения с
ледника приятно
оттеняли
жесткость
полуденной
солнечной
радиации. Всё
это - вся эта
сцена, весь
пейзаж,
ландшафт и
антураж
удивительно
гармонировали
с
Красимириной
вдохновенной
речью, эта
речь
продолжала
струиться и мягко
обволакивать,
и не хотелось
её прерывать
даже для
того, чтобы
сходить в
палатку за
тюбиком
защитного
крема или
панамой, и
Лёша не прервал
и не сходил… И
вот тут-то он
и заработал те
самые
мерзкие
болючие
пузыри, с
которых я
начал этот
рассказ, и к
которым, пройдя
полный круг –
через
Красимиру и
через мой
тернистый
путь в
кинематографе,
– мы и вернулись…
Я с
удивлением
замечаю, что
занимаясь в
своей
обычной
жизни в
некотором
роде программированием,
я и тут, в
процессе
написания этого
рассказа,
создаю
вложенные
циклы:
рассказ о дне
нашего первого
выхода на
гору вызвал к
жизни, через
Лёшины
пузыри,
рассказ о
Крассимире, а
рассказ о
Красимире
побудил меня
к поясняющим
замечаниям о
моём месте в
современном
кинематографе.
Затем, как бы
дойдя уже до
самого дна и
всплывая на
поверхность,
я прошёл весь
путь в
обратном
направлении
и вернулся, таким
образом, в
тот день,
когда,
спустившись
с горы, мы
сидели в
столовой в
ожидании пищи:
я в радостном
настроении, а
Лёша в озабоченном.
Круглолицая
девушка с
глазами
недавно
одомашненного
бельчонка
приносит нам
пирог,
фаршированный яйцом и
мясом, рядом
с которым
красуются
горка капусты
и несколько
полосок
говядины, и
всё это
приправлено
ароматным
кисловатым
соусом а-ля
Корея.
Девушек на
кухне три, и я
старательно
заучиваю
непривычные
имена
Назгуль и
Асель. Таблички
с именами
приколоты у
девушек на груди,
и это - одно из
нововведений,
замеченных
мною в этот
прилёт.
Третью
девушку звали
Аней, что не
потребовало
от меня
никаких специальных
усилий по
запоминанию.
Вообще же, я с
удовлетворением
отметил, что
в хозяйстве
Казбека
Валиева мало
что
изменилось, несмотря
на полную
смену
персонала в
Каркаре и в
базовом
лагере. Новые
девушки
ничуть не
менее
приветливы,
чем те,
которые
кормили нас
тут четыре
года назад:
«приятногоаппетитакушайтеназдоровьенехотителидобавку?!..»
Более того, у
них появился
даже некоторый
профессиональный
лоск: они
прогуливаются
меж столами с
грацией
моделей на
подиуме и
загадочно
улыбаются, -
носики
чуть вверх и
в сторону, но
не заносчиво,
а слегка игриво.
Не знаю, где
они этому
научились, -
плод ли это
всепроникающей
глобализации,
заносящей
головоногую
топ-модель в
сакли самых отдалённых
аулов, или же
девушки были
отправлены
на курсы
актрис и
стюардесс
перед заброской
вертолётом в
тьму-таракань,
в ледниковый
период.
Разделавшись
с пирогом, я
попиваю чай,
раздевая
одну за
другой
маленькие
разноцветные
карамельки, и
разглядываю
окружающих. Напротив
моего стола,
через проход,
сидит команда
иранцев,
одетая во всё
оранжевое.
Они остро
интересуют
меня, как представители
государства,
глубоко
враждебного
моему
собственному.
Характер
этой вражды
настолько
иррационален
и лишен каких-либо
видимых
причин, что
ставит в
тупик даже
меня, который
обычно с
лёгкостью
объясняет
всё что
угодно, а в
случае, если
ситуация сменяется
на
противоположную,
то и противоположное
с той же
лёгкостью…
Конечно, я
далёк от того
чтобы
переносить
свойства
государств
на свойства
проживающих
в них отдельных
личностей (в
конце концов,
я сам, убеждённый
антикоммунист,
не
испытывающий
и капли ностальгии
по
взрастившему
меня монстру,
родился и
прожил
половину
жизни в
Советском
Союзе), но, всё
же, я
всматриваюсь
в этих иранцев
пристальней
и
пристрастней,
чем в прочих
обитателей
лагеря.
Иранцы
веселы,
уплетают
обед за обе
щёки, компанейски
ведут себя
друг с другом
и с
окружающими.
Сидящий у
прохода
лысоватый
иранец,
смуглым
овалом лица и
маслинами
глаз похожий
на Шломо - завхоза
фирмы, в
которой я
работаю,
держит в руках
маленького
плюшевого
медвежонка и
временами,
когда он
полагает, что
его никто не
видит, нежно
прижимает
игрушку к
щеке. Я не из
тех, кто
впадает от
таких вещей в
сюсюкающий
восторг, но я
люблю живые и
непосредственные
человеческие
реакции.
За соседним
столом сидит
пара японцев:
парень и
девушка.
Вчера они
спустились с
горы после успешного
восхождения.
У них добрые
плоские лица,
траченные
морозом и
ветром, и они
похожи
скорее на
тибетцев или
людей
племени шерпа,
чем на
японцев. Пока
парень
молчит, он выглядит
сдержанным и
интеллигентным,
но когда он
заговаривает,
от
первоначального
приятного
впечатления
мало что
остаётся: он
выплёскивает
из себя
резкие
отрывистые звуки,
пучит глаза и
судорожно
жестикулирует.
Возможно,
такая
порывистая
манера разговора
свойственна
всем японцам
в той или иной
мере? Как
легко можно
принять
привнесенное
чужой
культурой за
личностные
особенности
конкретного
индивида. И
наоборот...
Японка была
тиха и
незаметна, а
взгляд её - два
затравленных,
загнанных в
угол зверька
- был
взглядом
женщины,
привыкшей
стесняться
своего
увечья. Её
изуродованные
ладони были
лишены
пальцев.
Всех... И
несмотря на
это, она взошла
на Хан-Тенгри
- гору,
требующую
если не лазательных
способностей,
то хотя бы
способности
держать в
руках жумар и
ледоруб?..
Я приучен
уважать
человеческое
мужество безотносительно
к предмету
его приложения
и почти
безотносительно
к прочим
качествам
его носителя.
Это такой
привитый в
детстве
условный
рефлекс,
отшлифованный
годами
причастности
к занятиям, в
той или иной мере
связанным с
риском. И всё
же, видя эти бывшие
женские руки,
я не могу не
задаваться
вопросом о
предмете
приложения
этого несомненного
мужества и
фантастического
упорства. Я
не могу
избавиться
от ощущения,
что подобная
обсессия,
привычно
выдаваемая нами
за выбор
свободной
личности, по
сути есть
отсутствие
выбора и
отказ от
построения
собственной
жизни, что
она низводит
человека до
положения
насекомого,
запрограммированного
ползти вверх,
не властного
над своей судьбой
и своими
влечениями,
раз за разом
выходящего
на
бессмысленный
поединок с равнодушным
чудовищем,
походя
откусившим ему
пальцы.
Я прекрасно
понимаю, что
никто из нас,
ходящих в
горы, не
застрахован
от подобных
потерь, а тот,
кто думает
иначе, просто
не понимает,
с какими
силами он
вступает в
легкомысленную
игру. Любой
из нас
рискует
однажды попасть
в эту
мясорубку, но
что заставляет
человека, в
ней
побывавшего,
возвращаться
в неё вновь и
вновь, - после
того, как закончены
игры
здорового
сильного
животного,
энергия
которого
ищет выхода и
находит его в
опасной игре,
и ты
покалечен,
перемолот,
лишен столь
многого? Эти
пальцы
никогда уже
не нырнут в
кудри
ребёнка, не
перевернут
страницу
книги, не
взъерошат
шевелюру любимого
и не пробегут
по клавишам
чего бы то ни
было – как
можно не
возненавидеть
то, что сумело
отнять у тебя
всё это?
Откуда
берётся эта
невозможность
искать и
находить опору
и приют в
окружающем
мире, откуда
этот вечный
штурм никем
не
обороняемой,
забытой
богом, но всё
ещё
смертельно
опасной крепости.
Как будто
отрезаны все
пути назад, и всё,
что могло бы
составить
счастье этой
женщины,
осталось
наверху - в
звенящих от мороза
чёрных
скалах,
сожравших
некогда её пальцы…
Господи,
подари ей то,
что ты не
столь уж
редко даришь
многим
другим
женщинам, зачастую
куда менее
примечательным:
понимающую
любовь
родителей,
тёплый и
уютный дом,
детский смех
и нежные
прикосновения
любимого
человека. Дай
ей свободу:
пусть
отпустит её,
наконец, эта
мертвящая,
заскорузлая
безнадёжная
судорога.
Мы вышли из
столовой.
Похоже, не
всегда настроение
следует за
погодой -
иногда
бывает и наоборот.
Чашу ледника
накрыло
плотным серым
войлоком, из
которого, как
из мелкого
сита, сеяла
колючая
снежная
крупа.
Подкралась
головная
боль и
вцепилась в
затылок
цепкими суставчатыми
лапками –
догнала с
утреннего выхода.
Мы залезли в
палатку и
занялись
сортировкой
продуктов
для
завтрашнего
перехода в первый
лагерь. На
этот раз мы
пойдём с
прицелом на
постановку
лагеря и
ночевку, а
потому
рюкзаки
обещают быть
увесистыми.
Сперва, мы
решаем, кто
что понесёт.
Поскольку
операторы
тащат на себе
всю
съёмочную
аппаратуру,
мы с Лёшей
отдаём им
только часть
продуктов, а
всё
общественное
снаряжение и
остаток
продовольствия
делим между
собой. Я беру
маленькую
палатку, одну
горелку и оба
баллона, а
Лёша –
палатку-полубочку
и всё остальное.
Теперь
главное –
отобрать и
разделить
продукты.
Какое-то
время мы
сидим и бессильно
созерцаем
гору
разномастных
пакетиков,
свёрточков и
коробочек, а
уголки наших
ртов опущены
книзу, как у
печальных
клоунов.
Наконец,
произнеся
одно из тех
волшебных
слов, которые
помогают
мужику
взбодриться,
Лёша
решительно
придвигает к
себе ящик с сырами
и колбасами.
Боже мой,
сказал я,
окидывая
скептическим
оком эту
невыносимую
для
ортодоксального
иудея
картину,
какой «не кашер»
мы тут
устроили…
Лёша
помолчал,
взвешивая,
стоит ли
открывать
миру своё
невежество:
- Что такое
кашер?..
- Лёша, ты
хочешь
сказать, что
отправился
на
восхождение
в паре с
израильтянином,
не зная
законы кашрута?!..
– ответил я,
как и
полагается,
вопросом на вопрос.
- Ну-у… -
простодушно
ухмыльнулся
Лёша, начиная
понимать, что
наткнулся на
золотую жилу,
которая
может
заметно скрасить
наше унылое
занятие.
- Да будет
тебе
известно,
что,
поскольку
евреи по
характеру
своему народ
своевольный, недисциплинированный
да, к тому же,
ещё и довольно
безалаберный,
Господь Бог
взял на себя
труд по
регламентации
их
беспорядочной
жизни во всех,
даже самых
мельчайших,
аспектах.
Правильный
еврей не
только знает
точно, до
мелочей, что,
как и когда
нужно делать
из числа тех
вещей,
которыми
озабочены
представители
всех прочих
народов, но и
выше крыши
загружен
всякой
абсолютно
необъяснимой,
свойственной
ему одному
иррациональной
хернёй. Господь
наш загрузил
еврея
бессмысленной
работой, как
опытный
прапорщик
нерадивого солдата:
он прекрасно
понимал, что
незанятый
еврей, еврей,
энергия
которого не
заземлена
должным
образом,
непременно
что-то натворит.
Если бы Карл
Маркс, в своё
время, занял
свой неуёмный
мозг
решением
вопроса,
можно ли считать
африканского
жирафа
кашерным
животным,
вместо того,
чтобы
расковыривать
палочкой
пролетарский
муравейник,
может человечеству
и удалось бы
как-нибудь
валиком, за
неимением
четких
рекомендаций,
перекатиться
через мечты о
всеобщем
счастье
прямиком к
всеобщей
сытости.
С другой
стороны,
вполне
возможно, что
всему,
включая и
кашрут, была
причина, и
было объяснение,
но многое
утеряно
безвозвратно:
обрублены
корни и
песком
занесены
источники.
Приведу
пример из жизни
животных: на
Галапагосах,
где от
рождения
очередного
острова и до
погружения
его в пучину
океана
проходят
какие-то
смешные два-три
миллиона лет,
и потому
эволюция
работает в
три смены,
как
замордованный
стахановец,
чтобы успеть
произвести
необходимое
количество
новых видов,
живёт одна
нетривиальная
птица:
нелетающий
корморан.
Поскольку на
островах
отродясь не
было никаких
хищников, а
за рыбой
вполне можно
сигать прямо
со скал,
корморанам-переселенцам
стало влом летать,
они
обленились,
нагуляли
жирок и со временем
полностью
утратили
способность к
полёту. Не
тренированные
годами
крылья постепенно
утратили
былую силу,
стали тонкими,
как ножки
программиста,
а оперение
стало жидким,
с
пролысинами.
В сущности,
никто из сегодняшних
корморанов
не помнит,
что его предки
были
способны к
полёту, но
что интересно:
после
каждого
ныряния,
вскарабкавшись
обратно на
покрытую
пятнами
гуано родную
скалу, он
усаживается
с важным
видом на солнцепеке
и
расправляет
для просушки
свои никчемные
крылышки,
похожие на
драное
старушечье
бельё...
- Так, что
такое кашрут?
– Лёша вернул
мой беспокойный,
не занятый
регламентированной
деятельностью
мозг к
интересующей
его теме…
- Кашрут? Ну,
это правила
такие: что
еврею можно
есть, а что
нельзя. Ну, к
примеру,
нельзя
молочное с
мясным смешивать
– добавил я,
широким
жестом
обводя все
эти наши сыры
вперемешку с
колбасами,
весь этот
свальный
грех…
- А, это я знаю…
Не знал
только, что у
этого есть название…
- У
всего в этом
мире есть
название!..
- И ты его
соблюдаешь –
этот, как его…
кошак…
- Кашрут,
блин!.. Я, Лёша,
неправильный
еврей. Я спокойный
и
дисциплинированный,
меня даже в
армии
прапоры не
особо
загружали
бессмысленной
работой, и
там – я упёрся
взглядом в крышу
палатки, по
которой
шуршал равномерный
занудный
снежок – об
этом знают… А
если
серьёзно, - у
меня
врожденная
идиосинкразия
к обрядам и
церемониям… К
любым. И нет в
мозгу того
участка,
который
отвечает за
веру, и без
которого
человек не в
состоянии
поверить ни в
Бога, ни в
Кашпировского,
ни в зелёных
человечков с
Альфы
Центавра...
- Расскажи
ещё
что-нибудь
интересное
про евреев...
- Ну, например,
посуда тоже
должна быть
раздельной:
отдельно для
мясного, и
отдельно для
молочного…
- Охренеть!..
- Угу.
- А если ты
съел мясное,
когда можно
будет есть
молочное?
- Молодец –
зришь в
корень… Через
шесть часов.
- А рыбу с
молоком
можно? – глаза
у Лёши горели
азартом, он
заметно
повеселел и
забыл про свои
пузыри.
Работа у нас
спорилась, и
продукты
шустро
разлетались
по четырём
пёстрым кучкам:
две для нас с
Лёшей и две
для Валеры с
Сашей.
- Рыбу можно,
рыба – не мясо…
- А в чем
разница?..
Я посмотрел
на Лёшу
укоризненно:
- Лёша, ну
откуда же я
знаю… Да и
вопрос
бессмысленный.
Я же говорил
тебе: "заняты
необъяснимой,
иррациональной
хернёй". И,
кстати, не
любая рыба
вообще
кашерна, а
только та, что
чешуёй
покрыта.
Скажем, сом –
рыба не кашерная,
в пищу не
годящаяся, и
угорь тоже…
Потому,
кстати, у нас
такие сомы в
ручьях на
севере (да, НА
СЕВЕРЕ. Что
смешного?..)
водятся –
телёнка под
воду
утаскивают.
- А птица?..
- А вот птица –
это мясо.
Особенно
курица… Но и птица
не любая в
пищу идёт.
Там что-то с
крыльями и с
пальцами на
ногах
связано –
точно не помню…
Но страуса
точно есть
нельзя. Да и
мясо не любое
кашерно. Ну,
там, свинина
ясный пень.
Но, вообще-то,
есть четкие
критерии,
кого еврею
можно кушать:
только
парнокопытных,
которые с рогами.
Конину
нельзя, да и
верблюда
тоже - хоть и
двупал, но
копыт не
имеет.
Мо-зо-ле-но-гий!
- И что,
многие у вас
это
соблюдают?
- Как тебе
сказать… Со
всеми
заморочками,
с
раздельными
мойками для
мясного и
молочного, с
исследованием
на предмет
кашерности
всего и вся,
вплоть до
одеколона –
только ультраортодоксы,
пожалуй…
Такие, в
черных шляпах
и
лапсердаках.
- А, видел… -
Лёша кивнул
понимающе и
ухмыльнулся.
- Ну, а свинину,
конечно,
большинство
народу не
ест. У нас,
кстати, полно
кабанов
диких на
севере – расплодились,
просто
бедствие.
Арабы, правда,
охотятся.
- Так они ж
тоже не едят?..
- Мусульмане
не едят, но
христиане-то
едят. Мясо
христианам
продают.
-
Арабам-христианам?
- Ну да. А ещё, в
еврейских
некашерных
ресторанах
свинина
называется
«белым мясом»…
Эвфемизм
такой -
берегут
чувства
гастрономических
меньшинств…
Не свиноед
презренный, а
любитель
«белого мяса».
У меня
самого,
кстати, насчет
свинины
забавный
случай был.
-
Рассказывай!..
И тут я
угостил Лёшу
своей
любимой
историей.
Было это
давно, - в те
скудные, но
обещавшие так
много, а
потому
прекрасные
времена, когда
я только
начал
работать в
своей
"конторе".
Всякий
новоприбывший
репатриант
привозит с
собой заветный
сундучок
штампов и
расхожих
представлений,
и у меня он
тоже имелся.
Я был уверен,
что все
поголовно
коренные
израильтяне,
кроме
каких-то
совсем уже
асоциальных,
нарочито
эпатирующих
типов,
шарахаются
от свинины,
как монашка
от
фаллоимитатора.
Работал я поначалу
почти
бесплатно, но
инженером в хорошей
вполне
солидной
фирме.
Трудился, как
пчелка:
прилежно и в
срок
исполнял
поручения и
всячески
демонстрировал
начальству
свой почти
бессловесный
пока ещё
интеллект:
глазами да
понимающими
кивками
головы. В общем,
дорожил
местом, что
называется.
Первого моего
начальника (а
я уже троих
пережил, в хорошем,
конечно,
смысле) звали
Моше Цадик, что
в
легкомысленном
переводе на
русский звучит,
как Мишка
Праведник…
Маленький
худой
мужичок за
шестьдесят, с
козлиной
бородкой,
глазами
дерзкого
умницы и
точными, молодыми
движениями
бывшего
каратиста. Я
редко видел
его серьёзно
кушающим,
обычно он приносил
с собой на
работу пару
гронок отборного
винограда, –
тем и
питался, и
кроме этого
факта мне не
было
известно
ничего о его
кулинарных
пристрастиях.
Решил он
как-то раз
взять меня с
собой на
объект в
воспитательно-образовательных
целях, а так
же, чтобы оторвать
от чертежей и
спецификаций
и прикоснуть
к живому и
дышащему
(всякой
дрянью, замечу
в скобках)
производству,
которое я,
вообще-то,
терпеть не
могу, но с
радостью соглашаюсь.
Проведя
полдня среди
воняющих химикалиями
загадочных
автоклавов и
автоклавок,
вдоволь
поблуждав в
техногенных
джунглях, где
с высоких
полипропиленовых
стволов
свисали
разноцветные
лианы проводов
и кабелей, а
человекообразные
операторы,
почёсываясь,
ходили на
водопой к
кофейному
автомату, мы
отправились
в обратный
путь. По дороге
Моше
расспрашивал
меня о жизни
простого
человека в
советском
государстве,
а я рассказывал
хоть и
честно, но
так, чтобы
мои соотечественники,
а с ними и я
сам, не
выглядели
совсем уж
безнадёжными
папуасами.
Вели, мол,
жизнь
скромную, но
просвещенную:
на завтрак -
Достоевский,
на обед -
Толстой, а на
ужин – Чехов,
поскольку
тяжелое на
ночь не полезно.
Хоть и вещал
я о высоком,
но к этому
моменту уже
вполне
низменно
хотел жрать.
На подъезде к
Хадере Моше
надолго задумался,
затем
спросил меня
мягко, без
нажима, но и
без
извинительных
интонаций
излишне
деликатного
человека,
которым он не
являлся:
- А скажи, вы в
России ели
свинину?.. ТЫ
ел свинину?.. –
добавил он,
заточив
вопрос и направив
его
смертоносным
остриём в
грудь
беззащитного
подчинённого
ему создания…
Бли-и-н!.. Что
говорить, как
ответить?..
Вот ведь козёл,
- какое ему
дело?.. Что
хочу, то и ем -
свободный
гражданин
свободной
страны...
Уволит?
Репрессирует?..
Минута прошла,
надо
отвечать…
- Смотри –
говорю я
медленно и
раздумчиво,
изо всех сил
стараясь не
соскользнуть
в оправдывающийся
тон – там, в
России, никто
не соблюдал
кашрут. Я ел
там всё, в том
числе и свинину,
- я, вообще,
человек не
верующий. Не
вижу причин,
почему я
должен был бы
менять свои
привычки… (Какой
я, всё-таки,
молодец:
герой, свиной
диссидент,
блестящим
будущим
своим рискую,
но головы не
склоняю
перед
религиозным
мракобесием!..)
Моше на
секунду
оторвался от
дороги и
зыркнул на
меня
посветлевшим
серым глазом:
- Прекрасно! Я
знаю тут, под
Хадерой,
небольшой
ресторанчик,
где готовят
замечательный
"белый"
стейк! Ты уже
голоден?..
Мало рано
проснуться, и
даже встать
рано – это ещё
тоже, в
сущности, не
означает
раннего
выхода…
Несмотря на наши
благие
намерения,
которые
выразились в
установленном
на 5:15
будильнике,
Лёша долго не
мог
преодолеть
притяжение
«постели», а я,
хоть и
преодолел
его вовремя,
но потратил
полчаса на
войну с
"молнией" в
нижнем
отделении
рюкзака,
который,
кстати,
произведен
одним из
спонсоров
нашей
экспедиции. Тут
я попадаю в
некоторое
затруднение,
которое
прямо-таки не
знаю, как и
разрешить… С
одной
стороны, как
человек
пишущий и
уважающий
свой труд, я
должен -
просто
обязан - быть
предельно
откровенен с
читателем, и,
к тому же,
написание
данного
опуса не было
оговорено
никакими
договорами и
соглашениями,
ни устными,
ни
письменными,
являясь, таким
образом, моим
личным
частным
предприятием.
С другой
стороны,
катить бочки
на спонсора,
кажется мне
не совсем
этичным, а
потому я
постараюсь
быть
предельно
сдержанным в выражении
своих чувств,
и просто в
выражениях…
Мой принцип
с этого
момента: о
спонсорах, как
о мёртвых:
«ничего или
только
хорошее!»
Чертова
"молния", по
правде
говоря, изрядно
вывела меня
из
равновесия.
Что я только
не
перепробовал!..
Я даже сбегал
в столовую за
сливочным
маслом, но
смазка не
помогла,
нижнее
отделение
рюкзака так и
осталось
закрытым на
две трети, и
мне пришлось
запихивать
свой
спальник без
чехла через
оставшееся
отверстие.
Только
ходьба и
морозный
утренний
воздух – эти
два лекаря
ран душевных
– успокоили
меня и
примирили с
моей жизнью и
с её
спонсорами…
Погода
сегодня
бодрит: вдоль
ледника задувает
живительный
ветерок, а
хорошо
выспавшееся
небо
выгнулось высоким,
упругим
куполом:
мощная,
плотная синева,
лишь местами
армированная
алюминиевыми
волокнами
перистых
облаков.
Солнце, застрявшее
в сплетении
этих волокон,
выглядит, как
косматая
спросонья
путана.
На самом
краю морены,
там, где мы
останавливаемся,
чтобы
«переобуться»,
прежде чем
вступать в
священные
владения
Горы, нас
догнал
человек, которого,
как объяснил
мне потом
Валера, зовут
Володя
Заболоцкий:
красивое
сочетание, которое
легко
западает в
память и так
уютно там
обустраивается,
что уже в
следующую минуту
ты
сомневаешься,
а не слышал
ли ты об этом
человеке и
раньше.
Он живо
поздоровался
с Сашей,
приветливо кивнул
нам с Лёшей и
стал
трепаться с
Валерой, как
со старым
знакомым,
каковым для
него и
являлся…
Человек этот
прожил в
горах так долго,
что полностью
лишился
свойственной
горожанам защитной
скорлупы, -
растворился
в горах, как
сахар-рафинад
в стакане
солнечного
чая... У него
напрочь
отсутствовал
возраст, не
прочитывался
социальный
статус, и он
был абсолютно
лишен
церемоний и
межличностных
барьеров.
Серьёзный и
простодушный,
он подступал,
впивался
пытливым
глазом и
решительно
проходил в
вашу душу, -
удобно там
располагался,
не стесняя
хозяина.
Говорил он
живо и не совсем
правильно,
жестикулировал,
заглядывал в
глаза
собеседнику:
вопросительно
и немного
требовательно,
как бы ища
поддержки и разделения
чувств.
Фенимор
Куперовский
персонаж:
Следопыт и
Зверобой не
американских
прерий, но
тянь-шаньских
гор…
До первой
перильной
верёвки мы
поднялись за
час, –
довольно
быстро,
учитывая
тяжелые рюкзаки.
Пройдя
первую
верёвку, я
обнаружил в
месте её закрепления
маленькую
светловолосую
иностранку –
обессиленную
и
отчаявшуюся,
барахтающуюся,
как муха в
паутине. Она
загнала свой
жумар в узел
на перильной
верёвке, и
теперь никак
не могла
отстегнуться.
Её подруга стояла
рядом,
беспомощно
хлопая
ресницами, но
похвально не
бросая
напарницу на
произвол
судьбы… С
моим
приходом
пойманная
девушка
снова
беспорядочно
забилась, как
муха с
приближением
паука, затем
жалобно замурлыкала:
«Сори, сори…», но
о помощи не
попросила. Я
успокоил её
благожелательным
словом, затем
деловито, со
второй
попытки,
открыл жумар
и выпустил
бабочку на
свободу,
сорвав пышный
букет
растроганных
«Сэнк ю!». Как
это, всё же,
приятно,
задёшево
проявить
лучшие мужские
качества
перед таким
вот милым и беспомощным
созданием…
Поскольку
обогнать это
создание на
перильных
верёвках не было
никакой
возможности
по причине
тяжести
рюкзака,
глубины
снега и
крутизны
склона, мне
пришлось
тащиться у
него в
кильватере
до самого
лагеря, и при
каждой
остановке меня
одаривали то
виноватым
«сори», то
благодарным «сэнк
ю»…
На подходе к
лагерю
давящими
волнами накатила
головная
боль –
навязчивый
спутник высоты
и
недостаточной
акклиматизации.
Перед самым
лагерем нас
ждало
последнее
препятствие:
короткая
крутая
ледовая
стенка,
изгрызенная
десятками
ледорубов и
кошек.
Губчатый лёд
крошился, как
сахар, и мне
пришлось
вылезать,
держась
руками за верёвку.
Выбравшись
наверх, я
долго не мог
восстановить
дыхание.
Оглядываю
лагерь, -
плотную
шеренгу
палаток,
истоптанный
грязный снег
и тоненький
ручеёк,
кое-где
показывающий
из-под снега
свою
блестящую
змеиную
спинку.
Многое
вспоминается,
но есть и
новое: подход
к лагерю
пересекает
широкая
ледниковая трещина
с подтаявшим
и сильно
просевшим снежным
мостом. Снова
пристёгиваюсь
к перилам и
двумя
быстрыми
опасливыми
шагами перемахиваю
на ту
сторону.
Зайдя с двух
сторон и
заглядывая
нам в лица своими
бесстыжими
видеокамерами,
Валера с
Сашей
снимают, как
мы с Лёшей
устанавливаем
палатку.
Помню, что,
превозмогая
нарастающую
головную
боль, я
старался
придать
своему лицу
живое и
деловитое
выражение, но
теперь,
рассматривая
эту сцену на
экране, я
должен
признать, что
мне удалась
лишь вторая
часть этой задачи…
Поскольку
нам не
удалось
найти две
свободные
площадки по
соседству,
ребята установили
свою
полубочку
ниже по
склону, через
несколько
палаток от
нас с Лёшей.
Отчасти
поэтому,
отчасти
потому что на
нас давит высота,
и тело
сопротивляется
любому дополнительному
движению, мы
готовим обед
раздельно –
каждый в
своей
палатке.
Собрав волю в
кулак, иду за
водой. Небо
затянуло
тучами, ледник
прихвачен
скорым на
расправу на
этой высоте
морозом, и
полузадушенный
ручей больше
не журчит.
Пытаюсь
наковырять
воды в
нескольких
местах, но
только в
небольшой лунке
перед
операторской
палаткой мне
удаётся
пристроить
крышечку от
термоса, и я
наполняю
котелок
стылой
полярной
шугой. Пока в котелке
варится
гречка, Лёша
задумчиво перебирает
пакетики с
копченным
мясом. «С чего
начнем?..» -
поднимает он
на меня свои
расширенные
от
проведенного
в полярной
ночи детства
выразительные
черные (нет –
чОрные…) очи.
«Мне всё
равно…» -
говорю я,
сглотнув
слюну, что
несомненно
было принято
Лёшей за признак
нестерпимого
голода, хотя
я всего лишь подавил
рвотный
позыв.
Расковыряв
гречневую
кашу и
пожевав немного
мяса, мы выбросили
остаток на
каменистый
склон – подальше
от палатки,
на прокорм
прожорливым
скальным
воронам.
Снаружи
доносятся
голоса – это
Володя Заболоцкий
обнаружил
Красимиру и
исполняет вокруг
неё
взволнованный
брачный
танец.
«Боже мой,
какая
красивая
женщина!» –
восклицает
он
возбуждённо
и немного
торопливо -
«Вы такая
красавица в
наших горах –
просто чудо!
Просто чудо!..
Я даже готов
поцеловать
вас!.. Честное
слово…»
Мы с Лёшей
изумлённо
переглядываемся:
«ДАЖЕ готов
поцеловать!».
Я давлюсь
смехом, Лёша вытирает
глаза
тыльной
стороной
руки и
сморкается в
туалетную
бумагу…
Я слышу, как
Красимира -
вполне
сложившаяся,
красноречивая
и уверенная в
себе
женщина,- что-то
невнятно
отрицает
смущённым
голосом,
который, тем
не менее,
приобрёл
характерный
глубокий
грудной
тембр…
«У тебя нет
напарника?..
Заболел
напарник?!.. Так
возьми меня!..
Не нужен
напарник - с
тобой буду я!..» -
Володя
наступал и
окружал,
отрезал женщине
пути к
отступлению.
– «Я гид, я
свободный
сейчас...
Только
спущусь вот
вниз, и
завтра к тебе
вернусь!.. Ах,
какая
красивая
женщина!» - и,
как бы в сторону
уже, но в
полный голос:
«На такой
можно даже
жениться!..»
Это было
безумно
смешно и
трогательно
одновременно…
Невероятно,
но эти
откровенные приставания
не были
запятнаны
пошлостью, словно
она, эта городская
по
происхождению
плесень,
напрочь была
выжжена в
этом
человеке
солнечным ультрафиолетом,
вытравлена
морозом и
пронизывающими
ветрами. По
сути, это
были самые целомудренные
приставания
из всех
«грубых
приставаний»,
какие я когда
бы то ни было
наблюдал… Что
бы он не
произносил, -
это было
всего лишь
непосредственным
обращением
Адама к Еве,
требованием,
древним, как
род человеческий,
а потому
правомерным,
могучим и
действенным.
Он был
настойчив, но
не прилипчив.
В его голосе,
в его
интонациях
не было ничего
елейного,
масляного,
скабрезного:
он был прям,
прост и
возвышен. В
этой чуть
сбивчивой от
волнения
речи
слышались и
хрипловатый
«горла
перехват», и
то самое
«сердца мужеского
сжатье»…
Какая
невинная и
мужественная
простота,
какое
суровое и
пронзительное
простодушие!..
И какая
безвозвратная
потеря, не
видеть
Красимириного
лица в эту минуту!..
Мы с Лёшей, не
произнося ни
слова, вновь
закатываемся
беззвучным
смехом...
После обеда,
Лёша с
Валерой
отправились
в "верхний
первый
лагерь" – это
такие
"выселки",
расположенные
на сто метров
выше по гребню.
Четыре года
назад моя
палатка
стояла именно
там, но в этот
раз мы решили
стать ниже, не
в последнюю
очередь
потому, что
нижний лагерь
намного
оживлённее
верхнего, и в
нём гораздо
больше
возможностей
для интересных
съёмок и
интервью.
Я остался
лежать в
палатке
наедине со
своей
головной
болью,
разраставшейся
в мозгу, как
сорное
колючее
растение, на
которое нет управы:
пустило
отростки в
лобные доли,
оплело и
сдавило
затылок,
вонзило
неумолимые шипы
в глазное
яблоко. Когда
Лёша
вернулся, я
понял, что
мне всё же
удалось
уснуть,
поскольку
его приход
меня
разбудил…
- Валера
зовёт нас в
гости на сало
с луком.
- У нас есть
сало?..
- Володя
Заболоцкий
оставил.
- Ладно, идём.
В полубочке
сумрачно, всё
окрашено в
зеленоватые
тона,
землистые
лица
товарищей
находятся в
полной
гармонии с
моим
самоощущением.
На
полиэтиленовом
пакете
любовно
выложены
плоские
пластинки
сала и ломти
ядрёного
лилового
лука.
Несмотря на
мертвенную
бледность
ликов, души
моих друзей
пожирает
жаркий деятельный
огонь. Они
обсуждают
отснятое и планируют,
что бы ещё
такого-эдакого
можно было
отснять. С
нарастающей
тревогой я
наблюдаю, как
наша беседа
заворачивает
в нежелательное
для меня
русло.
- У меня есть
одна давняя
идея –
говорит Валера,
обращаясь, прежде
всего, к Саше
Ковалю – Было
бы неплохо снять
идущего по
гребню
человека, -
Лёшу или Яна, -
не сверху или
снизу, а
сбоку - это
всегда хорошо
смотрится на
экране.
- Ты имеешь в
виду
гребешок
ниже лагеря?
- Да
- Он узкий…
- Идея такая:
идти за
человеком и
снимать его
камерой,
вынесенной
на какой-то,
как бы,
штанге…
- На штативе?..
- Возможно, на
штативе...
- Может не
хватить
длины, но
можно
попробовать…
- они всё
больше
возбуждаются,
и я тревожно
перевожу
взгляд с
одного на
другого…
- Давайте
попробуем!.. –
говорит
Валера, делая
явственное
движение в
сторону
выхода из
палатки.
- Завтра на
спуске можно
будет
попробовать… -
говорю я, но с
таким же
успехом я мог
бы попытаться
завернуть в
сторону
разогнавшуюся
лавину.
- Почему же
завтра? Прямо
сейчас!.. – говорит
Валера,
искренне не
понимая, как
можно
откладывать
в долгий ящик
такую
замечательную
задумку...
Все смотрят
на Лёшу:
Валера с
Сашей ждут
решения, а я -
приговора…
- Конечно!
Попробуем
прямо сейчас
– говорит Лёша,
и перед моим
мысленным
взором
возникает
Колизей,
арена,
шершавая от
многократно пролитой
и высохшей
человеческой
крови, распростёртый
гладиатор с
маской
острой горной
болезни на
лице, два
надменных
победителя,
занесших над
его головой
тяжелые, как
булава
Геракла
видеокамеры,
и деловитый молодой
император,
дающий им
условный
знак большим
пальцем:
ДОБИТЬ!..
"Боги, где же
вы, боги…" –
беззвучно
шепчет гладиатор,
вознося к
небу
затуманенные
головной
болью,
слезящиеся
глаза…
Лёша
выглядывает
наружу и
сокрушенно
качает
головой.
Чёрная туча
подоспела в
последнюю
минуту, и с
неба повалил
мягкий,
пушистый, как
ресницы
Снегурочки,
спасительный
снег. Пена
небесного
огнетушителя
обволокла
всё вокруг,
гася страсти
человеческие
и творческие
порывы
неуёмных
кинематографистов.
"Спасибо…" –
прошептал
гладиатор и
прикрыл рот
ладонью,
пряча улыбку
мимолётную,
невольную…
О
том, как Саша
Коваль не
съездил в
Японию
Общий
разговор
четырёх
человек
дарит одному
из них
возможность
расслабленного
неучастия, а
потому я
слушаю байки
своих друзей,
безвольно
распластавшись
на Сашиных
вещах и
прикрыв ноги
Валериным
спальником.
Под мерное
шуршание
снега да
глухое
уханье и
вздохи Горы,
разговор с профессиональных
тем с
предсказуемой
неизбежностью
перетекает
на женский,
остро дефицитный
в нашей
ситуации,
пол, на
Володю Заболоцкого
и его попытку
взять опеку
над Красимирой,
на личный
опыт
участников в
подобного
рода
альпинистских
приключениях.
Все сходятся
в том, что
взятие
женщины «на
онсайт» в
подобных
условиях
вещь, хоть и
возможная, но
не столь
часто
случающаяся,
как это пытаются
представить
некоторые
записные горные
ловеласы. С
другой
стороны,
«редпоинт»,
или точнее –
успешный
штурм после
предварительной
обработки,
вещь куда
более вероятная,
хоть и не
столь
эффектная с
точки зрения
чистоты
стиля…
- Был у меня
случай в
конце
восьмидесятых
– задумчиво
мурлыкает
Александр,
щуря много
повидавший
глаз и оглаживая
бороду –
спускался я с
Коржаневы.
Палатки у
меня не было,
я
рассчитывал
найти какую-нибудь
пустующую во
втором
лагере, или
же, в крайнем
случае, - мир
не без добрых
людей, на
улице
замерзать не
оставят.
Спускаюсь я в
лагерь.
Сунулся в
одну палатку,
в другую… В
третьей
обнаруживаю
симпатичную
одинокую
девушку-японку,
представляете?
Её группа
наверх ушла,
а ей чего-то
там
занездоровилось,
и её оставили
в лагере. Ну, я,
понятное
дело, взял
эту девицу в
оборот -
подселился,
заботой
окружил: то
чай
приготовлю,
то подкормлю
чем-нибудь,
то тёплую
вещичку под
бочок ей
подоткну… Всё
это
бескорыстно,
разумеется.
Будь она
страшней
габонской
гадюки, я бы
всё равно её
пригрел, но
она, как раз,
очень даже
ничего была…
Молоденькая
такая, и
глаза
смышлёные… и
даже почти не
узкие. И
экзотика
ведь какая:
Япония! Это
вам не чешка
и не полячка
какая-нибудь
соцлагерная,
это же
полноценная
буржуазная
заграница!..
Вы
представьте
себе только:
на дворе
восьмидесятые
годы,
железный
занавес до
неба, граница
на пудовом
замке... С
японкой
переспать…
это было… ну,
как в Японию
съездить?..
Понимаете?
Мы
понимающе
киваем
головами и
просим у Саши
раскрытия
кульминативных
подробностей,
но Саша
рассказывает
не торопясь,
то и дело
ускользая
мечтательным
взором в
недоступные
нам глубины
своего
романтического
прошлого.
- Так вот,
несмотря на
своё
изначальное
бескорыстие,
на интим я,
конечно же,
рассчитывал,
чего греха
таить... Была у
нас, правда,
языковая
проблема - я
ни на каком
языке, кроме
русского, не
говорил, но
оно может и
лучше даже
при таких обстоятельствах:
язык жестов,
знаете, - от
него до
нежностей
ближе всего.
Чего-нибудь
жестами
изобразишь, а
потом и руку
положишь участливо
– слов-то нету,
чтобы чувства
нужные
передать…
Молодой был,
весь горел,
по правде
говоря…
- Ну и как? Как
было-то? В
Японию
съездил?..
- Не, не
съездил… -
Саша лукаво
усмехается
нашему
нетерпению.
- Что ж так?.. Не
подпустила к
себе
капиталистка?..
Саша
задумчиво
покачал
головой и стал
серьёзен.
- Не поверите,
но
менталитет
этот её
японский всё
мне
испоганил -
эта её мелкая
подробность
и дотошность…
Всё у неё по
полочкам да по
порядку было
- никак не
подступишься,
да и подступаться-то
перехочется…
Как бы это объяснить
вам?.. Вот я увидел,
как она
полчаса зубы
чистит,
тут-то у меня
всё и упало…
Саша
погрустнел,
вспоминая,
как
гладкоствольное
либидо
молодого
горовосходителя
потерпело
фиаско в
столкновении
с чуждой всякой
спонтанности
японской
культурой, а
мы
сокрушенно
качали
головами, сочувствуя
Саше, но
втайне и
удивляясь
такой его
повышенной
чувствительности…
Незаметно
подкралось
время ужина,
и мы с Лёшей
отправляемся
восвояси.
Отлучившись
по природной
надобности, я
встретил
Красимиру,
которая
стояла у
своей
палатки и
грустно
наблюдала
умирание
солнечного
света на
склонах Хан-Тенгри:
меркнущая на
глазах
розовая шаль сползала
с его
могучего,
испещренного
ледовыми
буграми
плеча.
- Красиво…
- Красивый
закатичек!..
Георгий
заболевший, ты
знаешь?
- Да, слышал,
мне говорили.
А что с ним
случилось?
-
Недостаточный
этот…
а-кли-ма-ти-за-ционы…-
она
вопросительно
смотрит на
меня, я
понимающе
киваю.
- Ты пойдёшь
наверх одна?
- ПОйду – она
произносит
это с
решительным
ударением на
первом слоге
- Этот гора
такой трудный,
тяжёлый один…
Нужен
поддержка. Но
я могу сама. Я
очень хочу
подняться… –
Она
сокрушенно
качает
головой и
выглядит печальной
и одинокой. Я
делаю ей
несколько портретов
на фоне
заката и
возвращаюсь
к палатке,
грызя себя за
то, что так и
не предложил
ей разделить
с нами ужин…
Посоветовавшись
с Лёшей, я
вновь
напяливаю
ботинки, наспех
обернув
шнурки
вокруг
голени, и
отправляюсь
к
Красимириной
палатке.
- Красимира,
пойдём,
поужинаешь с
нами. Веселее
будет –
посидим,
побеседуем.
- Сейчас, я
только
пуховы одеть…
– согласилась
Красимира с
поспешностью
общительного
по природе
человека,
которому
предложили
покинуть
одиночную
камеру.
Когда она
проскальзывает
в нашу
палатку, оживлённо
щебеча прямо
с порога, в
палатке словно
загорается
оранжевое
солнце, становится
теплее и
уютнее. Мы
мечем на «стол»
дымящиеся
макароны
«Ролтон»,
заправленные
сублимированным
«белым мясом»,
а на десерт –
сублимированную
клубнику,
которую
Красимира
аккуратно
отправляет в
рот, любовно
осмотрев
каждую ягоду.
Господи, о
чём мы только
не трепались
в тот вечер: о
Георгии и его
«молчальниковом»,
мучительном
для Красимиры
характере, о
Хан-Тенгри и
его «труднической»
верхней
части, о пике
Победы и о
том, почему
Красимира
никогда-никогда
не захочет на
него
подняться:
«он длинный:
идешь, идёшь,
идёшь –
можешь
помирать!..
Дышышчий
совсем нет…» - и
об Эвересте,
на который
она обязательно
пойдёт и,
видимо, уже в
следующем
году: «это мЕчта
мОя… мЕчта!..» -
говорит она,
и блеск её
живых глаз,
которым не
загоревшие
под очками
светлые овалы
придают
особую
выразительность,
не даёт ошибиться:
у этой
счастливой и
сильной
женщины есть мЕчта.
Последняя
из тем,
которую мы
серьёзно, со
вкусом
раскрыли –
это качество
болгарской
питьевой
воды, её
химический
состав, а
также – свойства
фильтрующих
кристаллических
пород,
залегающих в
некотором
полюбившемся
Красимире
болгарском
горном районе.
В тот вечер
мы дошли до
края мира,
перечли все
атомы и
раскрыли
суть вещей, и
лишь когда
вся видимая
часть
Вселенной –
то есть, всё
сущее в
радиусе
тринадцати
миллиардов
световых лет
– была
досконально
обсуждена,
Красимира
попрощалась
с нами,
сказав: «благодарчество
за чудный
такой вечер»,
а мы с Лёшей
остались в
постепенно
остывающей,
утратившей
своё жаркое
«оранжеческое»
светило
палатке.
Девушку
звали Лисой,
(от Алисы – для
тех, кто не
умеет верно
расставлять
запятые и ударения…).
Иногда она
была похожа
на Катю, но
это
случалось
довольно
редко,
гораздо чаще
она бывала
Лерой, но
большую
часть времени,
всё-таки,
оставалась
Лисой –
рыженькой, остренькой
девушкой,
читающей, но
не позволяющей
прочитанному
подавлять
здоровые и
живые
девичьи
инстинкты.
Девушка, умеющая
приласкаться,
но умеющая и
укусить, если
понадобится.
У девушки
Лисы был
роман с французским
бэйсером.
Нет, не так – с
Французским
Бэйсером,
поскольку
Французский
Бэйсер – это, в
сущности,
имя, а не род
занятий и не
национальная
принадлежность.
Я уверен, что
произнеся
«французский
бэйсер» я
могу более не
утруждать
себя
мелкотравчатой
каллиграфией
- подробным
выписыванием
черт лица и характера,
поскольку
ваше
воображение
в точности
дорисует вам
всё
недостающее…
Как и все
прочие
французские
бэйсеры,
Французский
Бэйсер был
сверхчеловеком,
недостатки
которого,
если и
существуют,
не могут быть
видны
невооруженному
глазу
простого смертного:
гибкий и
сильный, он
гуляет по проволоке,
не знает
усталости,
ловко
жонглирует
любыми, даже
самыми
опасными
предметами и
бежит вверх
по горе, не
замечая
перильных
верёвок, в
одно касание
перемахивая
через скальные
пояса. Он
уравновешен
душевно,
ясноглаз и
улыбчив, и
глядя в глаза
женщины, и даже
лаская её,
видит
снежные
флаги над
вершиной,
купол
парашюта и
спасительный
гладкий
пятачок
далеко внизу
меж
смертоносными
торосами
льда.
Рядом с
французским
бейсером, где
бы он не находился,
неотъемлемым
атрибутом
присутствует
любящая его
девушка: худенькая,
с влажными от
гордого
умиления
глазами и
непременно
на целую
голову ниже
его, чтобы не
заслонять ни
на секунду
вершины природных
и
искусственных
башен...
Таково свойство
всех
французских
бэйсеров, и
хотя это не
главное их
свойство, но,
несомненно, одно
из важных и
характерных.
Каждое утро,
после
завтрака,
Французский
Бэйсер сидит
на скамейке у
столовой –
той самой
скамейке,
перед
которой
выгибает
богатырскую
грудь
надменный
Хан-Тенгри – и
смотрит на
запад - туда,
куда
скатывается
пологими
волнами Северный
Иныльчек, и
откуда
против его
воображаемого
течения
выгребает
порою невнятно
бормочущий
от
напряжения,
перегруженный
вертолёт.
Если
вертолёт не
прилетает,
задумчивый
бэйсер
возвращается
к своей
палатке –
сушить вспотевший
в ожидании
прыжка
парашют, или
в столовую – к
весёлой,
раскрасневшейся
Лисе, которая
научит его
ещё одному
округлому
русскому
слову.
Если же
вертолёт
прилетает,
глаза
бэйсера оживляются,
он идёт к
вертолёту
упругой, целенаправленной
походкой и
обращается к
пилотами на
сложившемся
между ними
условном
наречии.
Затем, он одаривает
подоспевшую
Лису
извиняющимся
неловким
объятием, в
то время, как
глаз его уже
нащупывает в
небе ту самую
заветную
высоту, где
он шагнёт в
звенящее
ледяными
кристаллами
небо, нырнёт -
сперва тело,
а вослед ему
и
захолонувшая
душа -
навстречу
жадно встрепенувшимся
воздушным
потокам, а
вертолётный
винт зло
плюнет ему
вдогонку
порцией
сжатого
воздуха...
А когда
волнительный
момент
прыжка уже позади,
когда
воздушное
пространство,
возмущённо
ревя,
сомкнулось
за живой
пулей и
успокоилось,
когда
спасительный
парашют, как
бы бережным
«подхватом наоборот»
поймал в свой
купол
выплеснутое
на неминуемую
гибель дитя,
Лиса
выбегает на ледник,
безошибочно
угадывая
точку приземления,
и стоит там –
ладошка
козырьком
над бровками,
- улыбается в
предвкушении
и нетерпеливо
покачивается
на носочках.
Так и
проходит их
долгий
медовый
месяц во льдах:
встречи и
разлуки
чередуются
так часто,
что их
хватило бы на
полноценную
многолетнюю
любовь
обычных
людей.
Вечером,
за брезентом
кухонной
палатки,
заботливо
оберегающим
тепло,
вкусные
запахи и
уютный
желток
одинокой лампочки
от покушений
подступившего
со всех
сторон мрака
высокогорной
ночи, они танцуют
вальс под
пьяненький
партизанский
баян и под
весёлые,
сочувственные
реплики кухонной
молодёжи,
отдыхающей
после
долгого
трудового
дня.
Когда же
придёт время
расстаться, и
он будет
ждать
вертолёта, с
парашютом,
уложенным на
самое дно
рюкзака, и
пойдёт на
взлётную площадку
не лёгким от
предвкушения
шагом, а с повисшей
на его руке
Лисой, и сам
звук
приближающегося
вертолёта
будет иным –
глухим,
будничным и
занудным, он
станет
думать о ней,
Лисе, - о том,
какая она,
всё же, замечательная
и необычная
девушка - эти
русские
просто чудо!.. -
и о других
лисах,
которые были
с ним раньше,
но такой именно
Лисы у него
уже не будет
никогда, хотя
будут
несомненно
многие
другие, а вон
с того пика
он так и не
прыгнул, хотя
хотел, но
погода
подвела, и
времени не
хватило, а с
этого, хоть и
удалось, но
прыжок вышел
не ахти - ветер
прижимал, - но
не было
шансов на
вторую
попытку… но в
следующем
году… Поцелуй,
объятие,
подержались
за руки,
помахал в
окошко…
Ах, девушки…
Так уходят из
вашей жизни
французские
бэйсеры, а вы
остаётесь на
всю жизнь ИХ
девушками -
девушками
французских
бэйсеров. И
кто бы ни был
у вас потом в
вашей долгой
и, я надеюсь,
счастливой
жизни, как бы
тонок и умён
он не
оказался, как
бы ни был вам
предан и
каким бы
любящим другом
или мужем вам
не стал, вы
всю жизнь будете
бессознательно
искать в нём
французского
бэйсера и
раздражаться
и нервничать,
не находя… Вы
будете
судить его
своим взбалмошным
женским
судом, и все
перечисленные
замечательные
качества
этого вашего спутника
будут
свидетельствовать
против него
самого
именно
потому, что в
большинстве
своём не
являются
качествами
французских
бэйсеров. Это
неправильно
и
несправедливо
по нашему
человеческому
милосердному
разумению, но
мучительно
прекрасно в
глазах того, кто
понимает
природу
вообще и
человека в частности,
силу и
целесообразность
её, природы,
законов.
Сегодня у
нас торжественный
день, и были
бы у нас
пионерские
галстуки, -
надели бы мы
их
непременно,
перед тем,
как
выстроиться
в
праздничную
линейку на
посадочной
площадке.
Кончилось
наше беспризорное
кинематографическое
детство,
кончилась
юная
вольница –
ходи куда
глаза глядят,
снимай чего
хочешь, –
сегодня
прилетает к
нам Георгий
(Гоша)
Молодцов –
режиссёр не токмо
фильма
нашего, но и
самой жизни:
скажет
полезайте на
убийственно
крутой
гребень, и
полезем мы на
него, как
миленькие,
скажет
ложитесь под
лавину – и
поляжем мы,
как один, во
славу
документального
кинематографа…
Явится он к
нам не
Айболитом,
доктором
добрым и
милосердным,
но твёрдой
долгожданною
рукой, ежовой
рукавицей,
десницей не
карающей, но
направляющей,
и
прекратятся
разброд и
шатания, а
творческая
энергия наша
устремится в
единое русло
– арык, по-местному…
В первые дни -
в Каркаре и
по прилёту в
базовый
лагерь, - мы не
знали, что и
как нам
снимать, а
главная идея
фильма была
зыбка и
расплывчата,
как сон
морфиниста:
что-то о том,
что «все мы
вместе, хоть
и в розницу…» и
«все мы
дружно,
несмотря на…»,
и что-то о том,
что «Она - одна
на всех у нас»
и мы, соответственно,
- «все на
Неё одну…»,
подразумевая
под "ней",
конечно же,
Гору.
Мы не знали,
должны ли мы
с Алексеем
Рюминым
играть людей
бодрых и
нацеленных на
вершину или
наоборот -
несчастных,
разбитых
горной
болезнью и
измученных
тошнотой и
головными
болями.
Ходить ли нам
прямо, грудь
колесом, или
пошатываясь
и спотыкаясь,
наворачивать
ли нам полные
тарелки разносолов
в
палатке-столовой,
или
закатывая глаза
ронять на
язык горсти
разноцветных
таблеток.
Не ясно
было также,
как
интервьюировать
многочисленных
иностранцев –
весь этот
пёстрый
базлаговский
зоопарк. С
чем
подходить, какие
вопросы
задавать?
Надо ли нам
сразу начинать
с самого
интимного:
«зачем вы ходите
в горы?», или,
быть может,
сперва
поговорить о
личной жизни
спортсмена? С
какими оценками
он окончил
школу, какие
пирожки печет
его бабушка,
поговорить о
его
сексуальной
ориентации, в
конце концов,
и только
тогда
переходить к
самому
интимному?..
А может,
говорить
нужно о
всепобеждающей
дружбе
народов, о
политических
противоречиях,
которые
отступают на
задний план,
заслонённые
умиротворяющими
душу горными
громадами?
Да! Именно
так!.. Пусть
каждый из них
подробно
расскажет,
почему он
любит все
прочие нации
и народности,
и как именно
он их любит, - похоже,
именно это
имел в виду
режиссёр
Гоша Молодцов,
инструктируя
нас в Москве
в Кафе Хаузе
на Цветном
Бульваре...
Всё туманно,
расплывчато,
лишено
направляющего
стержня...
Не всё
просто и у
операторов:
снимать ли
крупные
планы или
мелкие, с
треноги или с
руки, с
верхних ли
точек,
демонстрируя
тем самым,
как мал и
уязвим
бывает и
самый сильный
человек в
сравнении с
Горой, или с
нижних –
героизируя и
возвеличивая
восходителя?
Саша Коваль,
опьянённый
неподотчётностью,
предлагает
снять лёгкую
эротическую
сцену, -
"по-быренькому",
на свой страх
и риск -
порулить,
пока Гоша не
нагрянул.
- Палатка,
бретелька,
полная
молодая
грудь – небрежно,
случайно,
томно… Три
пятые… И половина
соска…
- Саша, это
всего лишь
третий день
экспедиции!..
- Разве во мне
дело?.. Без
этого ни один
фильм сегодня
не
обходится!..
Знаете, что
ждёт нас без
обнажённой
женской
натуры?
Пустые залы, заплёванные
проходы –
полный
провал в прокате…
Бурное
обсуждение
кандидатур,
бесплодные
попытки назначить
соблазнителя…
Первые пару
дней мы
слоняемся по
лагерю, присматриваясь
к
контингенту
и прикармливая
потенциальных
актёров и
актрис. Когда
они начинают
брать корм с
руки, мы
начинаем приучать
их к мысли,
что скоро
приедет Гоша,
Георгий
Молодцов, и тогда-а-а...
Будьте
готовы!..
И вот теперь -
«всегда
готовы!..» - мы
вихрем слетаем
вниз с
первого
лагеря на
встречу со
своим
художественным
долгожданным
руководителем…
Мы успели на
завтрак
точнёхонько
к третьему
удару
сигнального
колокола.
Волнение от
близящейся
встречи с
родимым
режиссером самым
незначительным
образом
отразилось на
моём
аппетите, и я
азартно
уплетаю
красавицу
глазунью:
выпиваю
густое
тягучее солнце
и хрущу
пузырчатой
корочкой.
Утолив скорее
не голод, но
тягу к
прекрасному,
перехожу к вещам
более
прозаическим:
сыру, колбасе
и хлебу, и
запиваю всё
это пятью
чашками чая.
Непонятно
по каким, но
вероятнее
всего эстетическим
соображениям
наша
столовая оснащена
крохотными
чашечками,
пригодными лишь
для японских
чайных
церемоний:
для чинных
посиделок на
тростниковых
циновках, для
чутких лапок
гейш.
Пополнять же
из таких
чашечек
запасы
жидкости в
организме
после возвращения
с иссушающих
тело высот, –
всё равно, что
наполнять
радиатор
"камаза" с
помощью
напёрстка…
Примерно на
пятой чашке я
замер,
вытянув шею:
вдалеке
послышался
характерный
рокот низко
летящего
вертолёта, и
все посетители
столовой
высыпали
наружу – одни в
надежде на
скорое
возвращение
на Большую
Землю, другие
просто из
любопытства
увидеть
чистеньких,
не
поношенных
новоприбывших.
Игнорируя
все эти
ожидания - и
весомые, и
легкомысленные,
- серебристая
искра
облетела ледник
по дальней
стороне, не
приближаясь к
базовому
лагерю. Она
проплыла на
фоне пика
Чапаева,
натужно
набирая
высоту,
пролетела
над ледовыми
сбросами
чуть ниже
седловины,
затем
развернулась
и пролетела
ещё раз.
Ищет
погибшего
поляка…
Где-то там,
среди
ледового
хаоса
Северной Стены,
в сияющей
нарядными
голубыми
сосульками
трещине или
под метровым
пуховым одеялом
снега, лежит
крохотное
стеклянное
тело
человека,
совершившего
на спуске с
вершинной
башни одну
единственную
ошибку, суть
которой так и
останется
для всех нас
загадкой.
Вопреки
тому, что
думают о
горах очень
многие,
вопреки
известной
сентенции
всеми любимого
поэта и
смутителя
душ, в горах
"гибнут зря"
куда чаще, чем
в каком бы то
ни было
другом месте.
Смерть в
горах, если
только она не
связана со спасением
другой жизни,
столь же
бессмысленна,
как и смерть
под колёсами
машины, а
смерть
самого поэта
от водки, на
мой взгляд,
была на
порядки
осмысленнее
такой вот
случайной
смерти,
поскольку
являлась
логическим
завершением
некоего
жизненного
процесса, -
последней
станцией
точно
отмеренного
пути.
Не
задержавшись
нигде и,
следовательно,
ничего не
обнаружив,
вертолёт
перевалил
через
седловину и
ушёл на южную
сторону, оставив
нас наедине с
поляком,
который
сидел где-то
там в своей
трещине
высоко над
нами – днём и
ночью, день
за днём, всё
то время,
пока мы ели,
пили,
смеялись,
болтали,
любили или
сквернословили.
Все молча
разбредаются
по палаткам –
к своим делам
и заботам. Купол
обыденной
суеты – это
всё, что
прикрывает
базовый
лагерь от
бесстыжего
глаза смерти,
от её
очевидного
присутствия
в этом месте.
Инородным
телом, тёплой
линзой
залегает он,
этот лагерь,
между
бирюзовыми
толщами льда
и фиолетовым
пластом
стратосферы –
хрупкий
инопланетный
форпост…
В лагере
царит
атмосфера
прощания, как
это обычно
бывает перед
прибытием
вертолёта.
Володя
Заболоцкий
повредил
ногу на самом
подходе к
базовому
лагерю и
теперь,
готовясь к
отлёту, делит
с нами
плоскую
бутылочку Red Lable, которая,
как ничто
другое,
цементирует
будущие добрые
воспоминания
друг о друге.
Не скажу, что
он не был
огорчен
случившимся,
но воспринимал
слом своих
планов, как
человек, для
которого
горы –
естественная
среда
обитания, а
периодические
травмы –
неизбежное
следствие
обитания в
этой среде...
Пригубив лёгким
гусарским
движением и
артистично
отставив в
левой руке
красную
крышечку от
термоса,
указательным
пальцем
правой он прогуливает
нас по
пройденным
им маршрутам.
Он ведёт нас
по Северному
Иныльчеку,
как хозяйка
проводит по
дому
новоприбывших
гостей: почти
искренно
сетуя на то,
что время
идёт, и силы
уже не те -
стареют и
люди, и вещи, - и
покосился
старый шкаф,
а в углу под
потолком
завелась
паутина, и
предатель
паркет,
свидетель и
соучастник
головокружительных
вальсов и
стремительных
мазурок её
молодости,
скрипит и
топорщится…
Несмотря на Red Lable, а быть
может и
благодаря
ему, мы с
Лёшей вдруг
вспоминаем,
что так и не
сумели
позвонить
«родным и
близким», и
отправляемся
на поиски
спутникового
телефона –
многодневная
сага с
перерывами
на высотный
альпинизм.
День за днём
мы
выслеживаем
эту штуку,
идём по пятам
и сидим у неё
на хвосте, но
всякий раз,
когда нам
кажется, что
заветная вещица,
наконец,
настигнута,
вместо
Золотого
Руна в наших
руках
оказывается
клок бараньей
шерсти, а
вместо Чаши
Грааля -
разбитое
корыто…
На этот раз
мы
направляемся
в соседнюю
палатку, где,
как
доверительно
сообщил нам
доброжелатель,
пожелавший
остаться
неизвестным,
обитает
очередной
Владелец
Спутникового
Телефона…
В палатке, в
позе
охотников на
картине
Перова,
пируют и беседуют
трое. Души их
подобны
монгольфьерам:
наполненные
тонкосортными
спиртовыми
парами они
успели
воспарить в
такие выси,
что приземлённый
трезвый ум
новоприбывшего
решительно
не поспевает
за их
легкомысленными
воздушными
пируэтами.
Отнюдь не
случайно слово
«спирит» в
английском
языке
означает одновременно
и дух, и спирт:
ещё в
стародавние, поросшие
мохом
времена
небритые, но
мудрые
бритты
отметили
глубокую
связь этих
двух летучих
субстанций.
- Садитесь!..
Выпейте и
закусите с
нами! –
приглашает
нас Сергей Владелец
Спутникового
Телефона, –
«Тураю» дать
не смогу,
«Турая»
разряжена
(вот оно -
корыто
вместо
Грааля!...), но вы
садитесь -
попейте и поешьте
с нами! Мы
провожаем
сегодня
Игорька. Вот
тут коньяк, а
там - гренки…
Откуда вы,
друзья?..
- Мы снимаем
фильм о
Хан-Тенгри,
точнее - о горах...
точнее - о
людях… я из
Москвы…
- А вы?..
- А я из
Израиля.
- Мы все в душе
евреи!.. – с
пафосом:
роняя голову
на грудь и
вознося
крышку от
термоса…
«Амен!» -
подумал я, но
ничего не
сказал, а
просто
принял
коньяку из рук
родственной
еврейской
души.
Справа от
меня
возлежит со
сломанной
ногой
провожаемый
друзьями
Игорь –
вытянутая нога
заботливо
укрыта
«полартеком», –
а напротив,
опираясь на
локоть и
подперев
щеку ладонью,
расположился
лукавый
парняга, с
головы до ног
укутанный в
конкурентный
нашим
спонсорам «Баск».
Глаза его
задорны и
дики. Друзья
обращаются к
нему «Димон»,
но с
явственными
уважительными
интонациями.
Коньячная
бутылка в
центре
"стола"
наполовину
пуста, а
потому все
пытаются
говорить о
высоком, но
все одновременно
и каждый о
своём…
Переводчица
Вера
прошмыгнула
в палатку и без
неуместного
во льдах
жеманства
приняла от
Димона
кружечку с
коньяком. На
лице её
блуждает
отрешенная,
безадресная
улыбка.
- За мужчин!.. – решительный
и
неожиданный
Верин тост
вызывает
бурный
восторг
присутствующих,
а также
сумбурную
толчею
встречных
тостов - торопливых,
сбивчивых,
наступающих
друг другу на
пятки….
- А я хочу
выпить не за
пол какой-то
там отдельный!..
Не за мужчин
и женщин каких-то…
За Ч-человека
хочу выпить!.. –
вдохновенно
пропел
Сергей, всем
телом
подавшись навстречу
истосковавшемуся
по бескорыстной
любви
Человечеству.
- Посмотрите
на него! – Не
отрывая от
собеседников
призывного
взгляда, он
широким жестом
указывает
куда-то назад
и вверх, в
полог
палатки, и я
не сразу
догадываюсь,
что он имеет
в виду
Хан-Тенгри… –
чем он был бы
без
Че-ло-ве-ка?!..
Чем он был ДО
Человека?!..
Все молчат,
пораженные
неистовой
силой Серёгиного
человеколюбия,
и только
загадочный
Димон гасит в
горсти
лукавую
ленинскую
улыбку.
Гора камней!..
Он был просто
гора камней!.. -
подсказывает
Серёжа,
извиняя
своим
слушателям
досадную
нерасторопность
мысли.
- И льда! –
вставляет
Игорь
уточняющее
дополнение.
- И льда! -
камней и
льда, льда и
камней!.. – Подхватывает
Сергей.
- Это мы – Он
переводит
указательный
палец с невидимого
нам великана
себе в
грудь,
подразумевая
при этом,
конечно же,
всё человечество,
– мы, Люди,
сделали его
тем, чем он является
сегодня:
Хан-Тенгри,
Великой Горой!..
Без Человека
у него даже
имени своего
не было! Он
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЛ
без нас с
вами, - НИ-ЧЕ-ГО! –
отчетливо разделяя
слова
отчеканил он
и обвёл нас
победоносным
взором, и я
подумал,
какой он,
всё-таки,
ноль, эта
сука
Хан-Тенгри, и
как он должен
быть
благодарен
Богу за то, что
мы у него
есть…
- А я
считаю, надо
выпить за
здоровье тех,
кто нас ждёт!
За тех, кто
нас ТАМ ждёт! –
Игорь указал
на небо, но
все поняли,
что он имеет в
виду наших
близких на
«Большой
Земле», поскольку
тот, на кого
непосредственно
указывал его
палец, прекрасно
справляется
со своим
здоровьем и
вряд ли
нуждается в
наших тостах,
а то, что он
нас ТАМ ждёт
известно
всем, но мало
кого радует…
- Да… У кого
ждут… – Сергей
добавил
Игореву тосту
лёгкую,
понятную
многим
горчинку.
Я заглянул в
свою кружку и
одним схватывающим
горло
глотком
допил всё то,
что не допил
за Человека…
Меня ждут.
Перед самым
обедом небо
снова
зарокотало басом:
тяжело
груженный
вертолёт
заходил на
посадку,
состригая
острым
винтом зазевавшиеся
струи
воздуха. В
нижнем
плафоне кабины
раскрашенной
в камуфляж
стрекозы, в
ногах у
небритых
пилотов,
белел своей
легкомысленной
футболкой
режиссёр
Георгий
Молодцов -
гражданская
рыбка в
большом
военном
аквариуме. Придвинув
акулий глаз
видеокамеры
к самому
стеклу он
снимал
наплывающие
одичалые стада
палаток,
грязные
бугры льда и
нас – хрупкие
фигурки, с
которых винт
вертолёта
сдувал всё небрежно
надетое…
«Камера
наезжает»!..
Прилёт Гоши
был, как
освежающий
смерч: Гошу носило
и качало на
волнах
эйфории, он
фонтанировал
речью и
размахивал
бутылкой
Кока-Колы:
«сейчас мы
снимем
рекламу!.. Ян,
снимайте!.. Я
пью Кока-Колу
на фоне
Хан-Тенгри!..
Где он? Ах, там…
Не слушайте,
что я несу – я
пьян… это всё –
ВЫСОТА!.. Я
опьянён
высотою!..»
Он никого не
слышит,
включая
самого себя,
и мы ведём
его в лагерь,
как сомнамбулу,
если только
сомнамбулы
бывают такими
шумными и
непредсказуемыми
в своих реакциях…
Мы
попытались
принудить
Гошу к
отдыху, опасаясь
за его
здоровье
непривычного
к высоте
равнинного
жителя, но он
тут же
выпрыгнул из
палатки на
лёд, как
чёртик из табакерки,
и, размахивая
отпечатанным
экземпляром
моих
«Негероических
Записок»,
стал рассказывать
мне историю
своего
романа с государством
Израиль,
которое, как
оказалось, он
посещал в
рамках
культурного
обмена документальными
кинематографистами...
Спустя полчаса,
когда я уже
знал о Гоше
больше, чем знает
среднестатистическая
кормилица о своём
питомце, он
вдруг умолк,
зацепившись
блуждающим
взглядом за
иранский
флаг, и, заговорщически
придвинув ко
мне лицо,
произнёс:
«Сегодня мы
будем
снимать
флаги!.. Это будет
безумно,
ПРОСТО
БЕЗУМНО
символично!..»
Все
флаги в гости
будут к нам...
В считанные
минуты он
организовал
Сашу с Валерой,
отобрал
необходимую
съёмочною аппаратуру
и объяснил
нам с Лёшей,
что мы ему на
фиг не нужны,
но нам будет
полезно
понаблюдать
работу
мастеров.
Просканировав
палаточный
городок
цепким
глазом, он
наметил первую
жертву
своему
требовательному
искусству…
Затем, вся
наша
груженная
кинобарахлом
компания
потянулась
по морене к
мостику
через
трещину,
отделявшую
нашу часть
базового
лагеря от
дальних
«выселков»,
где обитали
иранцы,
румыны и
прочие
обладатели
экзотических
флагов.
Первыми под
Гошин каток
легли иранцы.
Выросшие в
тоталитарной
стране с
традиционным
укладом,
привычные
подчиняться
начальственному
голосу, они
не оказали
Гоше серьёзного
сопротивления…
Отловив
одного из
этих всегда
одетых в
оранжевое
парней, Гоша
разъяснил
ему цели
нашей
экспедиции,
её интернациональную
направленность
и гуманистическую
заточку.
Иранец
смущённо покивал
головой,
нырнул в
палатку и
вынырнул из
неё, волоча
за рукав
сонного
приятеля,
который ёжился
и подтягивал
к подбородку
пушистые флисовые
брюки.
- Александр,
станьте там,
на пригорке,
а вы, Валера,
отойдите в
ложбину за
ручей, чтобы
снимать
постановку
флага с
нижней
позиции – на фоне
Хан-Тенгри…
- Гоша, но флаг
уже стоит…
Какую
«постановку»
мы будем
снимать?..
- Сейчас они
его выкопают
и установят
снова –
походя
объяснил
Гоша, как
будто это
было самым
обычным
делом -
заставлять
незнакомых
мужиков,
отдыхающих
после
восхождения,
валить на
землю, а
затем
устанавливать
заново свой
национальный
флаг,
закреплённый
на
тяжеленной,
связанной из
неструганных
досок
пятиметровой
мачте …
- Я в этом не
участвую… –
ехидно
шепнул я Лёше
– это будет
выглядеть
чересчур
скандально: израильтянин
принуждает
иранцев
валить их
государственный
флаг…
- По-моему,
Гоша с ними
вполне
справляется…
- осклабился
продюсер. Мы
с интересом
наблюдали за
происходящим.
Похоже,
наряду с
чисто
техническими
дисциплинами
будущим
кинодокументалистам
преподают во
ВГИКе курс
прикладной
бесцеремонности:
- Так, сейчас
вы должны
снять эту
штуку, – Гоша возлагает
ступню
победителя
на холм из валунов,
наваленный
трудолюбивыми
иранскими
руками, и
хлопает
ладонью по
импровизированному
древку – а
потом снова
её установить!..
Фарштейн?.. Да,
да, повалить…
Вот так… - Гоша
изображает
пантомиму: «солдат-победитель
сбрасывает
фашистский
флаг с
Рейхстага».
Ошарашенные
персы
вытянулись
перед Гошей,
уронив вдоль
тела
мозолистые
грабли вчерашних
дехкан. Ни
дать ни взять
- «два молодца
из ларца»
(если кто ещё
помнит мультфильм
моего
детства
"Вовка в
тридевятом
царстве")…
Затем, они
переглянулись,
засучили
рукава и
стали дружно
выкорчёвывать
своё нарядное
красно-бело-зелёное
знамя, вскоре
распростёршееся
на морене
подстреленным
павлином.
Отрусив с
брюк мокрую
моренную
крошку, они
выпрямились
и вопросительно
посмотрели
на Гошу.
- Валера, мы
готовы?..
Мотор! – Гоша
дал знак иранцам,
и те стали
водружать
свой
поверженный флаг,
что было
совсем не
просто для
людей, замученных
высокогорьем,
и далось им
не с первой
попытки:
водруженный
флаг, будучи
отпущенным, начинал
крениться и
заваливаться
набок.
Наконец,
навалив в
основании
флагштока изрядную
гору камней,
они встали по
обе стороны
флага, как
Армстронг с
Олдриным,
подбоченились
и солнечно
улыбнулись.
Валера с
Сашей снимали
это действо с
двух
разнесённых
позиций, а
непривычно
молчаливый
Гоша теребил
молодую
бородку и
изучал сцену
пристальным
взором
мастера. По
лицу его
бродила тень
творческих
сомнений и
художественной
неудовлетворённости.
Наконец, он
принял
решение:
- Валера, я
думаю, вам
нужно
переместить
камеру
метров на
пять правее –
вон к тому
камню, а
Александр
может
продолжать
снимать с прежней
позиции. А вы, –
Гоша
обернулся к
запаренным
иранцам и
перешёл на
беглый,
нарочито
непринуждённый
английский –
вас я попрошу
повторить
всё это ещё
раз. Если
можно,
ставьте флаг
аккуратнее и
увереннее,
старайтесь
его не
заваливать…
По лицам
иранцев
пробежала
лёгкая
оливковая
тучка, но,
осознав, что
над ними не
издеваются, и
все их
мытарства
продиктованы
единственно
нуждами искусства
и
интернациональной
солидарности,
они, не
говоря ни
слова,
принялись
расшатывать
только что
установленный
флаг.
Тем
временем, у
нас
появились
зрители: группа
румынских
восходителей
наслаждалась
зрелищем
чужого
принудительного
труда.
Когда иранский
флаг в третий
раз был
водружён на
морене, и
вконец
измученные
иранцы
пошатываясь выстроились
у его
подножия,
Гоша
приподнял
двумя
пальчиками
свои тёмные
очки – изящно,
за дужку –
удовлетворённо
кивнул и
отпустил
«актёров»
царственным
жестом.
Затем, он пристально
изучил
беспечно
потешающихся
над чужим
горем
зрителей,
перевёл
задумчивый
взгляд на
румынский
флаг,
скучающий на
пригорке у их
палатки, и,
заметив
красноречивую
траекторию
его взгляда,
румынские парни
притихли и
потупились…
Впрочем,
наученные горьким
опытом
иранцев,
понятливые и
старательные,
они всё
сделали с
первого раза.
Гоша
довольно
потёр руки,
как дирижёр
сырого,
неслаженного
оркестра,
издавшего,
наконец,
первые
гармоничные
звуки, и
оглядел лагерь
в поисках
новых
сюжетов.
- Что это за
интересный
флаг такой
там внизу?..
- Где?..
- А вон там –
чёрно-красный
такой…
- Это Папуа
Новая Гвинея…
- цинично
соврал я, но
Гоша не был
расположен к
шуткам.
- Что-то
мусульманское,
я думаю… –
предположил
Валера, и мы
стали горячо
обсуждать
национальную
принадлежность
загадочного
флага,
который, замечу
задним
числом,
действительно
более всего
походил на
флаг Новой
Гвинеи, не
зачавшей ещё
своего
первого
альпиниста,
насколько
мне известно.
- Я знаю, что
это за флаг –
произнёс
вдруг Саша, молча
выслушавший
наши
предположения…
- это
западно-украинский
флаг…
Бандеровский…
Мы
удивлённо
уставились
сперва на
Сашу, потом
на флаг… Хм…
Приблизившись
к палатке, мы
отрядили
Лёшу на
переговоры, а
Сашу Коваля
приставили к
нему, как
знатока
бандеровских
обычаев и менталитета,
хоть я и не
могу сказать,
что мы
безоговорочно
поверили в
эту его
бандеровскую
версию. Мне
почему-то
казалось, что
она не более вероятна,
чем моя
ново-гвинейская…
Лёша
приблизился
к палатке и
склонил голову,
прислушиваясь,
- вылитый
Миклухо-Маклай,
на первом
свидании с
папуасами…
- Эни боди
спикс
инглиш?.. –
громко
произнёс Лёша
с внятным
норильским
акцентом.
- А як же!
Балакаемо
чуток!.. –
ответили из
палатки.
- Извините за
беспокойство,
мы тут как бы
кино снимаем
про
Хан-Тенгри и
вот
заинтересовались
вашим флагом…
Вы ведь из
Украины?..
- Из Киева мы.
Киевляне…
- А почему же у
вас флажок
такой
интересный, не
желто-голубой?
Мы тут флаги
как раз снимаем,
потому
интересуемся.
- А, флаг…
Бандеровский
он… - Внутри
раздался весёлый
мужицкий
гогот, в
который
вплетались
звонкие
девчачьи
голоски…
- А почему же
бандеровский?..
Это как-то
связано с
политикой, с
убеждениями?..
- По приколу
просто…
Прикольный
флажок, - нам нравиц-ца!
– народ
внутри
веселился и
ликовал…
- А вы не
хотели бы
поучаствовать
в наших съёмках?
Мы бы хотели
отснять, как
вы его устанавливаете.
Мы сюжет
такой
снимаем, - про
разные флаги.
Лёша
выспрашивал
их вежливым
тоном, применяя
сослагательные
наклонения, и
я понял, что
бой проигран,
ещё не
начавшись…
Эх, Гошу надо
было к ним
отправить.
- Не-е… Устали
мы, мужики.
Только с горы
спустились.
Затем, в
палатке
заговорили
несколько
человек
разом, видимо
обсуждая
поступившее
предложение...
- Ладно, щас мы
тут кой-чего
закончим и
вылезем,
хорошо?...
- Хорошо -
сказал Лёша и
вернулся к
нам на пригорок,
а Саша
остался ещё
немного у
палатки,
побалакать
на ридной
мове с
друзьями-бандеровцами…
Потоптавшись
на пригорке
минут
пятнадцать и
начав
капитально
примерзать,
мы вновь отправили
к киевлянам
парламентёра.
- Ну что, Киев,
сниматься
будем?..
- Не-е… Нет сил!
Звыняйтэ,
хлопцы…
А чего ещё
можно было
ожидать от
людей, так долго
и умело
сопротивлявшихся
сталинскому
бульдозеру…
Жизнь
неприглядна
и сера,
И вечно
требует
Поступка!..
Мозгов
доверчивую
губку
Питает
всякая мура
(Что из-под
нашего пера...).
Не внемля
трезвому
рассудку,
Читатель
примеряет
шубку
И закупает
шлямбура...
Его манят
прожектора
Прилюдной
славы, ну и
юбка,
А также
линия бедра
-
Любви
лубочная
пора!.. -
Одной
заносчивой
голубки...
Но тут
появится
Урубко,
Он рявкнет:
"Стой-ка,
детвора!
Хан-Тенгри -
это вам не
шутка:
Погода - мрак
без
промежутка,
В снегу -
обвал, во
льду - дыра..."
Он этим, блин,
дегенера...
Ну, в общем,
разъяснит
малюткам,
Что эта
чертова гора
Есть -
живодёрка,
мясорубка,
И не берётся
"на ура"...
Там
атмосферы -
на пера
Полёт не
хватит... И ни
трубка,
Ни
папироска, ни
махра
Не курятся...
Ты, детвора,
Определённо
до утра
Протянешь
два свои
обрубка...
Рано утром, с
первыми
контурами
гор в той прохладной
кювете, в
которой Бог
проявляет свои
утренние
снимки, мы выстрелили
наверх.
Стояла
тёплая,
пронзительно
ясная погода,
и ручьи на
леднике не
унимались
даже ночами –
журчали и
хлюпали, и встречали
утренних
первопроходцев
приветливой
белибердой.
На этот раз
мы не занимались
съёмками
фильма и были
уже неплохо
акклиматизированы,
а потому
восхождение
приносило
телу ту
простую
спартанскую
радость, которая
составляет
одну из самых
привлекательных
сторон
нашего
сизифова
увлечения. Тело
пело и
трепетало!..
Оно вело
себя, как хорошо
налаженный
инструмент в
умелых руках...
День только
начинался, в
сущности, а
мы уже дымились
у палаток
первого
лагеря –
шкварчали на
солнце,
словно
гренки на
сковороде.
Народ сушил
вещи и
загорал...
Поклажа,
разбросанная
на черных,
как
запекшиеся
губы камнях, парила
от жара. В
такой вот
безмятежный
пылающий
полдень
всякий
лагерь в
горах становится
похож на
цыганский
табор.
Саша Коваль
скинул
докучливые,
стесняющие
тело одежды,
оставив на
себе лишь то,
что прикрывает
самое ценное,
– белоснежные
трусы и
панаму. Придя
в очередной
лагерь, Саша
первым делом
обнажается,
оставаясь
чаще всего лишь
в просторной
рубашке да в
эластичных
трусах
молодёжного
уважающего
рельеф фасона.
"Проветривать
яйца" - так он
это называет.
"В горах
нужно
держать себя
в чистоте и
при первой же
возможности
проветривать
яйца!" -
назидательно
объяснял он
нам с Лёшей...
Голопузый, в
легкомысленной
панаме –
большое бородатое
дитя гор – он
ищет
применение
своему
многолетнему
опыту
горного
ничегонеделания.
Вот он
свернул из
пенополеуретанового
коврика (в
простонародье
- «пенка») широкий
цилиндр,
наполнил его
снегом и
утрамбовал.
Затем,
распустил
коврик и на
образовавшуюся
снежную
тумбу
водрузил
шахматную доску.
Вызвал на
поединок
молодого
подтянутого
казахского
альпиниста,
взирающего
на мир через
розовые
солнцезащитные
очки, и победил
его.
Белоснежный
с ног до
головы, как
ангел - воплощённые
Силы Добра, -
Саша
орудовал, тем
не менее,
черными
фигурами, в
то время, как
черный
казахский
альпинист
играл, в
противовес,
за белых, и в
этом, при
желании,
можно было
увидеть
некую далеко
идущую аллегорию,
но в такие
звонкие
безмятежные
дни разве что
последний
зануда
станет искать
аллегории в
высокогорных
шахматных турнирах…
Все
заряжены
энергией и
ищут для неё
безопасный
выход и
подобающее
применение.
Погуляв с
обнаженным
торсом по
снежным
лоскутам и
вдоволь
нафотографировавшись
в орлиных
позах, мы с
Лёшей
Рюминым
отправляемся
брать
интервью у
разомлевших
восходителей.
Обаятельный
Алексей
подкрадывается
к ничего не
подозревающей
жертве,
очаровывает
её, охмуряет,
укутывает в
черный
бархат своих
глаз,
деловитый
Валерий
направляет
на неё свой серебристый
гиперболоид,
а неумелый я
подсовывает
ей под нос
микрофон. Мы
всё ещё неопытны
– я говорю о
нас с Лёшей, – и
Валера вполголоса
руководит
всей
операцией:
призывает
Лёшу не
издавать
животных
звуков, как то
– вздохов,
хлюпаний
носом, всех
этих «ну…», «э…», «во-о-от…»,
а меня – не
лезть в кадр
частями
своего
несобранного
тела. Я
понимаю, что
идеальный
звукооператор
должен быть
прозрачен и нем,
но ничего не
могу с собой
поделать…
Сперва, мы
размялись на
конопатой
простодушной
австралийке,
так и не сумевшей
внятно
объяснить
потенциальному
кинозрителю
«зачем она
ходит в горы»,
а потом
перешли к
более
перспективным
объектам.
В сеансе
связи Гоша
сообщил нам,
что в лагерь
поднимается
Сам Денис
Урубко с
командой, и
мы готовимся
не оплошать –
проверяем
аппаратуру и
оттачиваем
искусство
интервьюера.
Ещё пару дней
назад мы
узнали, что
Денис прибудет
в северный
базлаг на
поиски погибшего
поляка, но,
тем не менее,
Гошино сообщение
застало нас в
какой-то мере
врасплох. Чего
греха таить, –
мы
волновались.
У нас появился
уникальный
шанс не
просто
познакомиться,
но и взять
пространное
интервью у
легендарной
личности, а
такое
случается не
каждый день.
В лагерь
поднялись
трое: Денис
Урубко, Геннадий
Дуров и Борис
Дедешко – имена
вполне
знакомые,
тому кто
поспевает за течением
жизни
альпинистского
сообщества.
Предложив
им чай и дав
отдышаться,
мы перешли к
делу, и Лёша
объяснил
восходителям
идею нашей
экспедиции, а
также те
виды, которые
мы имеем
конкретно на
них: на
Дениса, Бориса
и Геннадия.
Гена и Борис
выглядели немного
усталыми и не
проявили
ожидаемого энтузиазма.
Не то – Денис!
Он выслушал
нас со строгим
сосредоточенным
лицом,
утвердительно
кивая в тех
местах
Лёшиной речи,
которые
казались ему
верными и
понятными.
Затем, лёгким
каучуковым
отскоком он
оказался на
возвышении,
на фоне
Северной
Стены, - её серо-голубые
каскады
мягко
оттеняли
мужественный
загар его
энергичного
лица, - и стал говорить.
Он оказался
прирождённым
оратором,
этот Денис
Урубко, -
настоящая
находка для
Гоши. Лично
для меня, в
его речи не
было ничего
нового,
поскольку я,
похоже, за
долгие годы
причастности
слышал уже
всё: все
горовосходительские
теории и
философские
концепции,
все споры о
стиле, о силе,
о воле, все
«зачем»,
«почему», и «как»,
все мнения –
воспалённые
и
умиротворённые,
поощряющие и
предостерегающие,–
всё, что
только можно
сказать
(проорать,
прошептать…)
о горах – теме
не слишком
глубокой,
между прочим,
– но мне было
приятно
просто
смотреть на
него и заряжаться
его энергией.
Энергия и отточенная
завершенность
движений
души и тела –
вот, что
показалось
мне главным в
этом человеке.
Он не
показался
мне
изощрённым,
не думаю, что
проникновение
вглубь чего
бы то ни было
дано ему
более, чем
любому
другому, но
его
скольжение
по
поверхностям
совершенно.
Как и многие
другие
выдающиеся
альпинисты,
он невысок
ростом и
худощав. В
силу своей
упругой
подвижности
и вечной
нацеленности
вверх, он
кажется
легче, чем,
вероятно,
есть на самом
деле. Начиная
говорить - а
делает он это
с уверенной
лёгкостью
человека,
привычного к
вниманию
окружающих, -
он безошибочно
находит
возвышение -
валун или холмик
- и тут же на
него
возносится.
Говорит он
красиво:
энергичным,
хорошо
модулированным
голосом,
оттеняя и
подчеркивая
сказанное
выразительными
движениями
сильных рук и
точной
мужественной
мимикой. На
фоне другой
присутствующей
в базовом
лагере мировой
знаменитости,
Кристофа
Профи,
человека
мягкого,
обволакивающего
дружелюбием,
Денис
выглядит
напористым,
смотрящим и
идущим
сквозь, хоть
и нерушимо
надёжным с
теми, кому удалось
остановить
на себе его
взгляд. Он показался
мне
удивительно
совершенной,
чудной
человеческой
машиной:
нечто такое,
что
подразумевалось
природой,
когда она проектировала
наш вид для
выживания:
для многодневных
голодных
марафонов и
рукопашных
схваток с
саблезубыми
тварями,
нечто, не
находящее сегодня
прямого
применения,
оттесненное на
периферию
жизни, в горы
и пустыни,
жидкокровными
синтетическими
вундеркиндами,
компьютерными
норными
жителями –
лидерами сегодняшнего
отбора. Это
печально, но
вовсе не удивительно.
В конце
концов,
множество
прекрасных,
сильных и
грациозных
созданий вымирало
и вымирает на
нашей
планете по
той простой
причине, что
миром правит
отнюдь не красота,
но
эффективность…
Девиз
природы: «Не
будь
эффектным,
будь
эффективным!»
Скорее приглядываясь,
чем
прислушиваясь,
я, всё же,
машинально
отслеживал
течение его
речи и мысли.
Всё, что он
говорил, было
разумным и правильным,
но могло
показаться
откровением
лишь
человеку
постороннему,
на которого,
собственно
говоря, и был
рассчитан
наш фильм. И
всё же, в
какой-то
момент он
произнёс вещь,
которая
вызвала у
меня
внутренний
дискомфорт,
заставила
вслушаться
повнимательнее,
а потом и
разобраться
в своих
ощущениях. Он
заговорил о
том, что
внизу, на
равнине, мы
выбираем
себе в
приятели
людей удобных:
интеллигентных,
понимающих,
не конфликтных,
но все эти
качества
окажутся
абсолютно
бесполезными
в
критической
ситуации на
высокой горе.
Человек
жесткий,
неудобный,
даже грубый,
но сильный
сможет
сделать то, в
сравнении с
чем все
приятности
общения не
стоят
выеденного
яйца: он
поможет тебе
выжить. Сто
раз это
верно!.. Но
вопрос,
царапнувший
меня и
вызвавший
дискомфорт
заключается
в следующем:
в чём же
будет
состоять
радость
увлечения,
вынуждающего
тебя делить жизненное
пространство
с человеком,
тебе неприятным,
и нужно ли
оно тебе,
такое
увлечение... Я
точно знаю,
что мне не по
душе горы,
захламлённые
хамством, и я
скорее
предпочту гулять
по некрутым и
неопасным
склонам в приятной
мне компании,
чем
отправиться
на предельный
для себя
маршрут с
человеком чуждым
и
малоприятным...
Закатное
солнце
полыхнуло
воспалённым
горловым на
окружающих
пиках и, не
спеша, с достоинством
угасло, а над
притихшим, на
глазах
вымирающим
лагерем
поплыла,
неторопливо
набирая
обороты,
галактическая
зодиакальная
карусель.
Последний
бессонный
альпинист
нехотя
втянулся в
тесную
раковину
палатки,
отступая с
поля дневных
суетных битв,
оставляя его,
это поле,
морозу и
мороку.
Щедрое
небо было
перехвачено
подарочной лентой
Млечного
Пути, но там,
где должен
был
красоваться
роскошный, усыпанный
мириадами
бриллиантов
бант, зиял
черный
провал
пылевых
межзвёздных
облаков и
загадочной
"тёмной
материи",
которая, как
известно,
влияя на всё
и вся, срывая
с орбит
небесные
тела и
рассеивая
зазевавшиеся
туманности,
сама
остаётся
невидимой и
неуловимой.
Такой
высокой
звёздной
ночью легко
думается о
смерти, если
вы понимаете,
о чем я говорю.
В
контексте
всех этих
величественных
спиралей,
ввинченных в
бесконечность,
в контексте
всего этого
густого
звёздного
варева
впадать в
небытие -
легко и
естественно,
в этом
контексте
неестественнее
всего
выглядит
именно жизнь:
и вообще, как
явление, и
твоя
собственная
в частности...
Твоя собственная
- в
особенности!..
Так
давайте
поговорим
немного о
жизни и смерти,
- это
интересно и
само по себе,
и в высшей
степени
полезно для
художественного
произведения.
Всякая
солидная
вещь
непременно
должна
содержать в
себе
рассуждения
о материях
по-настоящему
масштабных,
имеющих общечеловеческое
и
общефилософское
значение, и
моё
повествование
не является
исключением
в этом плане.
Посредством
глубокомысленных
отступлений
на тему
Космоса, я
намереваюсь
придать
своему
непритязательному
узкосекторальному
рассказу
совсем иной
размах и иное
измерение!..
Правда ведь,
не всё же мне
копаться в
грязном
белье
повседневности
да переходить
вброд
сточные
ручейки
рукотворных
страстишек,
мне надоело
мельчить:
пора, пора и мне
выбежать на
середину
комнаты.
Так вот, я
хочу
поведать вам,
я хочу, чтобы
вы, наконец,
узнали, что
существуют
две основные
тропы, два
магистральных
маршрута,
которыми звёзды,
эти великие
отшельники и
молчальники
вселенской
пустоши,
следуют к
своему смертному
одру.
Первый
путь, - путь
бесконечного
расширения,
сопровождаемого
медленным и
необратимым
угасанием.
Ступившая на
эту
неторопливую
стезю
стареющая
звезда
теряет с возрастом
свою мощь,
лучистую
силу и само
желание
светить,
безобразно
дряхлеет и
раздаётся
вширь,
превращается,
сперва, в
тусклую
массу
комнатной по
понятиям
звёзд температуры,
затем - в
холодное
пасмурное
облако пыли и
праха, и,
наконец,
равномерно
рассеивается
в
галактическом
пространстве,
удобряя его
тяжелыми,
трудноусваиваемыми,
но полезными
для
подрастающих
поколений
звёзд
элементами...
Занудное
угасание
такой звезды,
суть –
непрерывный,
растянувшийся
на миллионы
лет
последний
вздох, за
время которого
высыхают и
лишаются
шевелюры
атмосфер связанные
с ней
родственными
узами
планеты и спутники,
все же прочие
обитатели
млечных просторов,
пролетая
мимо
дряхлеющего
гиганта,
ускоряются и
почтительно
огибают его
по параболе.
Не знаю,
возможно,
кому-то такая
долгоиграющая
судьба, такая
удобрительная
миссия
покажется
привлекательной,
мне же, честно
говоря, по
душе другой
путь: путь
быстротечного
сжатия и
коллапса,
свойственный
энергичным,
горячим "по
жизни"
звёздам. Приближаясь
к своему
концу,
горячая
звезда сокращается
в размерах,
опадает,
отступает
внутрь себя
самой,
становится –
чего греха
таить – всё
менее и менее
устойчивой:
вспыльчивой
и
импульсивной,
беспорядочной
и рассеянной,
рассеивающей
по
галактическим
закоулкам
столь
необходимые
в звёздном
быту кометы,
планетезимали
и даже целые
полновесные
планетоиды.
Всё чаще ей
нездоровится,
её лихорадит,
ёжится она
под порывами
пронизывающего
нейтринного
ветра и
кутается в
скрученные
рукава
прохудившейся
за миллиарды
лет
магнитосферы.
Она обречена:
катастрофически
тончают её
лучистые
оболочки,
обнажая ядерную
крупнозернистую
сердцевину,
делая её уязвимой
для нечутких
прикосновений
молодых,
хорошо
защищённых
соседей по
Галактике.
Заметно
невооруженным
глазом её
старение, и
очевидны
признаки
близящегося
конца. И, тем не
менее,
уменьшаясь и
в массе, и в
размере, такая
звезда редко
теряет в силе
испускаемого
ею света,
который,
зачастую,
становится только
мощнее и
почти всегда
- богаче
оттенками...
Перед
смертью она
отпускает в
свободный
полёт все
свои планеты
и астероиды и
прочие
привязавшиеся
к ней
небесные тела
и начинает
бесконечное
падение в
самое себя -
"коллапс" по
научному, - до
тех пор, пока не
превратится
в
неподдающуюся
обнаружению
и измерению
точку,
вместившую в
себя, тем не
менее, целую
вселенную -
"микрокосм"...
Я неспроста
вешаю вам на
уши всю эту
наукообразную
лапшу - у меня
нет времени
на пустые
игры и
сомнительные
розыгрыши.
Нет! Я хочу провести
решительную
параллель
между тем,
как живут и
умирают
звёзды, и тем,
как живут и
умирают
люди... И
сейчас, когда
сам я прошел
уже добрую
половину
пути и с каждым
годом
становлюсь
всё более
похож на головастого
сухотелого
богомола -
заблудшего,
тоскующего,
измолотого,
безнадёжно
заплутавшего
в горячечных
июльских
травах, - у
меня
появилась
надежда, что
развилка уже позади,
и переведены
правильные
стрелки моей
жизни,
поскольку
лично мне
хотелось бы
выгореть до
конца, и,
когда этот
конец
наступит,
вернуться в
ту самую
точку, из
которой я вышел,
прихватив с
собой весь
свой трудно
нажитый
«микрокосм»...
Я хорошо
спал и проснулся
до
будильника.
Зная свой
темп и не сомневаясь,
что уж
Валера-то с
Сашей меня точно
догонят, я
вышел первым.
Горы сияли в
утренних
лучах, как
надраенная
посуда. Погода
балует нас,
словно мать -
долгожданного
ребёнка...
Пристегнувшись
к верёвке, ведущей
от скального
плеча, на
котором
расположен
лагерь, к
снежному
ребру, я
"пожумарил"
вверх, с
трудом
преодолевая
первые метры
склона.
Сонный
организм
медленно
втягивался в
работу, ноги
переставлялись
чугунными
чушками, но я
знал, что
через
полчаса-час это
пройдёт,
мотор выйдет
на проектную
мощность,
дыхание
наладится,
кровь
разбежится по
привычным
руслам,
каналам и
протокам. Чем
выше я
поднимаюсь,
тем больше
времени занимают
все эти
"переходные
процессы", но
я точно знаю,
что, как бы
тяжело ни
было на старте,
рано или
поздно
облегчение
приходит.
Услышав, что
меня
догоняют, я
обернулся.
Денис Урубко
поднимался,
не
пристёгиваясь
к перилам,
был хмур
лицом,
заметно
дышал... Поравнявшись
со мной, он
приостановился
и, сокрушенно
мотнув
головой -
золотистые
очки
отразили
лагерь и
меня,
выпуклого, -
обронил в
качестве
приветствия:
"тяжело
утром идётся...
не включился
ещё...".
"Организм
ещё не проснулся..."
- подтвердил
я и
почувствовал
лёгкую
стыдливую
радость от
того, что и
ему, Денису
Урубко, тоже
непросто. Это
говорило о
том, что мы с
ним сделаны
из одних и
тех же вполне
земных
материалов, и
дело, по
большому
счёту, только
в
пропорциях...
Вечером,
когда, сопя
от
удовольствия,
мы поглощали
заслуженный
ужин, Лёша
спросил меня
загадочным
тоном:
- Знаешь за
сколько
Урубко
поднялся из
первого
лагеря? -
- За сколько?.. -
- За два с
половиной!.. -
- Монстр... -
пробормотал
я с мрачным
восхищением –
но, знаешь,
утром ему
тоже было
тяжело... Он
был совсем
как человек,
когда догнал
меня...
У меня
самого
переход во
второй
лагерь занял
восемь с
половиной
часов, и я
намереваюсь
продолжать с
этим жить...
До, так
называемого,
"верблюда" -
характерного
двугорбого
холма,
расположенного
перед
последним
крутым
подъёмом, - я
даже неплохо
себя
чувствовал, а
на скальном
поясе активно
участвовал в
съёмках, да и
сам немало фотографировал,
благо погода
оставалась -
лучше не
бывает.
В
палатке
царит
невыносимая
жара. В
сочетании с
действием
непривычной
высоты, она
превращает
мозги в
искрящийся
электрический
шар, а волю – в
студень, она
вминает
внутрь виски
и
выдавливает
глазные
яблоки...
Поэтому, мы
готовим себе
еду снаружи -
сидя в снегу
у палаток. В
основном, кашеварит
Саша Коваль,
а Валера, как
всегда неприлично
свежий и
гладко
выбритый,
словно его
спустили во
второй
лагерь на
парашюте,
подхватывает
треногу с
видеокамерой
и
отправляется
вверх по
гребню
снимать спускающихся
с пика
Чапаева не
твёрдых в ногах
восходителей...
Лёша
Рюмин ведёт
по рации
переговоры с
Гошей,
который
управляет
теперь
съёмками дистанционно:
так
управляют
безголовым,
но ловким
роботом
исследователи
морских
глубин.
Я же в это
время просто
наблюдаю
жизнь лагеря
и пытаюсь о
ней судить,
как и
полагается писателю-сценаристу,
за которого
меня выдают
публике Лёша
с Гошей.
Каждый занят
своим делом...
Рядом со
нами расположились
украинцы:
разношерстная
группа,
которой
руководит
Владимир
Мудриков - мужик
крутого
посола и
крупного
помола: узкогубый,
жестковатый,
с ленинской
властной
хитринкой,
быстрый на
едкое словцо…
Уже не в пике
силы, но
прочный на
износ. С
жесткой усмешечкой
да с
прибауткой
он отгоняет
молодых
"медведей",
которыми
полон любой
альпинистский
лагерь, от
своей дочки
Маши, а быть
может и
наоборот:
Машу от
"медведей"...
Сразу и не
разберёшь.
Независимая
Маша принимает
отцовскую
заботу со
снисходительной
иронией.
Прочная
девушка, на
создание
которой пошёл
"шестой
элемент"
высшей пробы,
Маша относится
к тем
представительницам
«слабого
пола»,
которые сами
решают,
какого "медведя"
им заломать,
а с каким
сыграть в
лукавые
поддавки.
Однажды, во
втором
лагере, я застал
её сидящей у
палатки и
читающей мои
«Негероические
Записки»,
распечатку
которых - а,
возможно, и
не одну - Гоша
прихватил с
собой в
базовый
лагерь, дабы
они
вдохновляли
его на
создание
кинополотна
и будили
воображение…
Мне
показалось
занятным
наблюдать
человека,
читающего
мой опус, и, по
всей вероятности,
не
подозревающего,
что автор этого
опуса сидит в
трёх метрах
от него: вот она
задумалась,
заскучала,
улыбнулась,
хмыкнула, вот
она деловито
перелистнула
пальчиком,
который тут
же юркнул
обратно в спасительный
рукав
«полартека»,
вот она
уперла локотки
в колени и
склонила на
бок упрямую головку,
увенчанную
флисовой
шапочкой мягких
цветов –
голубого и
розового. По
её сосредоточенному
лицу
пробегали
тени, отбрасываемые
не чем иным,
как моими
собственными
мыслями,
сомнениями и
переживаниями.
Всё то, что
казалось мне
значительным
четыре года
назад, сейчас
лёгкими
облачками
проплывало
по
безмятежным
Машиным
небосклонам...
Мне было
безумно
интересно
узнать, что
она думает о
прочитанном,
но я,
разумеется,
ничем себя не
обнаружил,
поскольку
это выглядело
бы
пижонством
высшей марки.
Я просто сидел
и наблюдал за
переменчивым
выражением
её лица,
утратившего
на время
привычный отпечаток
спортивной
настырности.
«Очень
цельная и
целеустремлённая
девица, закалённая
привычкой к
сопротивлению
отцовской и
любой другой
посторонней
воле...» -
Подумал я про
неё. Она
наверняка
доберётся до
вершины…
Вечером,
когда
умирающее
солнце
затопило склоны
гор розовой
пеной, а
привычная к
безраздельному
царствованию
голубизна
отступала по
всему фронту
и удерживала
последние
форпосты
лишь на
северных
стенах, я вышел
на свою
обычную
вечернюю
прогулку и
обнаружил
Сашу Коваля,
задумчиво
наблюдающего
прощальную
агонию
дневного
светила. Его
красная
пуховка
полыхала в
закатных лучах
густым
каминным
пламенем, а
выразительный
контур лица –
крупный
каракуль
бороды и
грозный карниз
бровей – был
суров и
печален:
немолодой
человек,
наблюдающий
закат
немолодого мира.
Я
загляделся
на эту
картину.
Прыгнуло и
томительно
заныло
сердце. В
этом было так
много
старого,
доброго,
прямолинейного
Хэма, так
много того,
благодаря
чему я начал
ходить в горы
и продолжаю
ходить до сих
пор...
Зачесались
руки:
захотелось
впрыгнуть в суровый
шерстяной
свитер –
тёмно-серый,
под подбородок,
покусывающий
горло, – приземлиться
в занесённой
снегом
альпийской
хижине, у
камина, за
пишущей –
стучащей, спешащей,
спотыкающейся
– машинкой, и
писать, писать,
писать
тягучий,
тёрпкий и
печальный рассказ
«Старик и
горы»,
отвлекаясь
лишь на то,
чтобы набить
погасшую
трубку да
приложиться
к стаканчику
«Дайкири»…
О чём был бы
этот рассказ,
спрашиваете
вы? Конечно
же, не о горах.
Это был бы
рассказ о тех
вещах,
которые
только и
интересны
сложившимся
людям: об
одиночестве
и одиноком
упорстве, о
зрелой,
принимающей
всё как есть
любви, о
неразделённости,
о том, что всё
в этой жизни
было
слеплено
кое-как:
нелепо и
неуклюже, но
немыслимо
уступить
что-либо из
этого нелепого
и неуклюжего,
о всё ещё
сильном, но уже
многое
повидавшем и
потому лишь
неторопливом
теле, о
мудрой и,
соответственно,
избирательной
памяти… Но
главное, я бы
рассказал о
безнадёжных,
проигранных
изначально
сражениях,
которые, тем
не менее,
нужно вести
до конца: до
ухода, до
последнего
бесповоротного
поражения, -
неизбежного,
но могущего,
несмотря ни
на что, стать
достойным.
Ночью
раскалывалась
голова и ныли
зубы: пульсировала
вся правая
сторона.
Правое полушарие
бессонно
маялось, а левое
задрёмывало
чутким сном
китообразного…
Муторный
полусон.
Зашевелились
в шесть утра,
обменялись
хриплыми
фразами,
повздыхали,
протёрли глаза…
Нащупал
термос,
закутанный с
вечера в
Лёшину
пуховку и
отхлебнул
пару глотков всё
ещё тёплого
чая. Не
торопясь,
чтобы не расплескать
головную
боль,
одеваюсь,
высовываюсь
по пояс в
тамбур и
разжигаю
горелку, за
ночь
вмёрзшую в
лёд всеми
своими
паучьими
лапками.
Топлю Лёше
воду для
овсянки и нам
обоим на чай.
Сам я изрядно
охладел к
овсяной каше
и
предпочитаю
более
аскетический
утренний
вариант: сыр
с сухарями.
Затем, я
напяливаю
промороженные
«мыльницы»
пластиковых
ботинок,
которые
стучат поутру,
как кости
мертвяка, и
отправляюсь
в свой туалет
на западном
склоне
гребня. Я
вытоптал его себе
сам: проложил
дорожку до
того места,
откуда уже не
виден лагерь,
а склон
становится
круче, как
набегающая
волна:
тяжёлые пласты
снега
застыли на
старте,
готовые по первой
же команде
ухнуть в
ничего не
подозревающую
долину.
Тут-то я и
вытоптал
себе скромный
пятачок,
откуда
вечером
можно наблюдать
величественные
закаты, а
утром просто
наслаждаться
тишиной и
уединением.
После
завтрака мы
все уходим
вниз. Я
выхожу первым.
Маршрут
пустынен
сегодня,
несмотря на
прекрасную
погоду, и за
всё время
спуска я встречаю
лишь Илью
Левченко, да
перед самым
скальным
поясом
троицу
молодых
бельгийцев. Уже
на скалах
обнаруживаю
приотставшую
от своих
девушку-бельгийку,
и мы
обмениваемся
с ней
несколькими
фразами. Она
узнала меня: «ты
парень из RedFox Team»!.. -
так она
окрестила
нашу группу,
поскольку мы
все, как
близнецы
щеголяли в
одинаковых
ядовито-зелёных
курточках от
«РедФокс».
Говорит, что
устала,
интересуется,
близко ли
второй лагерь,
и будут ли
ещё скалы.
Сочувственно,
киваю
головой:
сперва «нет»,
затем «да»…
На скальном
поясе я
какое-то
время
нерешительно
изучаю пучок
разнообразно
изношенных
верёвок,
которыми
провешен
крутой траверс.
Пытаюсь
оценить
вероятность
срыва и его
последствия,
затем убираю
ледоруб на
рюкзак и прищёлкиваюсь
обоими
«усами» к тем
перилам, которые
кажутся мне
наименее
потёртыми.
Спускаюсь
лазанием по
крутым,
скользким,
жидко
припорошенным
скалам, где
не знаешь,
что лучше:
довериться
пожилым
верёвкам или
максимально
сосредоточиться
на лазании.
Кошки мерзко
скрежещут,
вниз по
склону
брызгает
мелкая
каменная
крошка…
Попив чая в
первом
лагере, за
полчаса
сбегаю вниз к
морене.
На леднике
бушуют реки.
Третий день
подряд стоит
солнечная
погода, и
распустившиеся
от безнаказанности
потоки воды
несутся, закусив
удила. Ледник
почернел и
опал, порос
каменными
грибами на
тонких
ледовых
ножках. Меня
не радует всё
это
великолепие,
поскольку я
знаю: скоро
погода
испортится, и
случится это
именно тогда,
когда она
будет нужна нам
больше всего:
на последних
выходах…
Сегодня у
нас день
отдыха. За
завтраком
все сидят
хмурые,
небритые,
задумчиво
ковыряют
манную кашу...
Гоша, как
обычно,
приходит
поздно, почти
ничего не
ест, во всём
ищет
художественные
смыслы.
Пристально
смотрит на
остатки
хлеба,
барабанит
пальцами по
столу, затем
взглядывает
на меня и значительно
подымает
вверх палец:
- Вчерашний
хлеб!..
- Что
"вчерашний
хлеб"?..
- Хлеб!.. Хлеб –
это ещё один
способ
заработать в
базовом
лагере.
Открыть
пекарню на
леднике:
«Тянь-Шаньский
хлеб»…
- А-а…
Творческий
человек,
перебивающийся
случайными
подработками
и зависящий
от прихотей
таких
ветреных
материй, как
художественная
мысль и
вдохновение,
Гоша любит
строить
сугубо
материальные
прожекты
надёжного
заработка.
Ему нравится
прочно
стоять на
земле обеими
ногами…
Предыдущими
Гошиными
проектами
были:
а. сдавать
в лагере
двуспальные
кровати законным
и преступным
парам,
б. открыть
тир, дабы
пережидающим
непогоду восходителям
было чем
развлечься.
Он
неизменно
делится со
мной своими
финансовыми
озарениями,
которые так
же неизменно
вводят меня в
глухой ступор.
Настолько
глубокий, что
я не умею
даже отшутиться…
«А-а…» - это всё,
что бывает у
меня сказать
на тему тира
или пекарни,
но я пытаюсь
вложить в это
междометие
максимум поддержки
и сочувствия.
Надо
сказать, Гоша
умеет быть
неожиданным,
– этого у него
не отнимешь.
В первые дни
по прилёту
высота
сыграла с ним
злую шутку:
Гоша пьянел,
шалел и
временами
напрочь
терял
чувство
реальности.
За ужином – я
говорю
сейчас о дне
прилёта – он
оглушил нас
диковатой
выходкой. С
нами за
столом
сидели
молодые и, не
в обиду им сказано,
интеллигентные
ребята из
Архангельска.
Конкретно
напротив
Гоши, сидела
маленькая
светлая
девочка с
русыми
косичками и
волевыми
скулами
румынской
гимнастки. Гоша,
рот которого
не
закрывался
ни на минуту
из-за
переполнявших
его чувств,
скакал с темы
на тему, как
горный
козлик, и из
под его золотого
копытца
разлетались
перлы
ошеломительного
остроумия и
всеохватной
эрудиции. Он
жестикулировал
столовым
ножом и обращался
ко всем,
кроме
волевой
девушки,
обнаруживая,
таким
образом, свой
интерес к ней
и некоторое
юношеское
смущение…
Девушка же в
разговоре не
участвовала,
вела себя
тихо и тщательно
пережевывала
пищу.
Вдруг Гоша
умолк, уронив
затуманенный
взгляд в
собственную
нетронутую
тарелку, и я
решил, что он
иссяк, но я
ошибся: Гоша
вспоминал
анекдот и собирался
с духом.
Наконец,
решившись, он
встрепенулся,
поёрзал, не
то вздохнул,
не то просто
набрал воздух
в лёгкие и,
глянув в упор
на девушку с
косичками,
произнёс: «Анекдот!
Слушайте
анекдот!..»
И он
рассказал
нам анекдот
настолько
чудовищно
пошлый и
вызывающе
неприличный,
что застольный
гомон разом
смолк,
видавшие виды
мужи
потупились,
вилки
повисли в
воздухе, а
пустая
тарелка
из-под салата
застыла удивлённой
буквой «О»…
Девушка с
косичками
замерла,
уставившись в
недоеденный
мясной пирог:
в правой руке
нож, в левой
вилка –
остриями
вверх и
немного вперёд,
в сторону
Гоши... Она
перестала
жевать, скулы
её побелели.
Просидев
несколько секунд
в полном
окаменении,
она вдруг
продолжила
жевать «с
того же
места»,
словно её
сняли с
клавиши
«пауза»…
Гоша,
совершивший
этот
странный,
зачем-то понадобившийся
ему акт
свободной
воли, обмяк,
невнятно
хмыкнул и
продолжил
прерванную
на анекдот
лекцию о
путях и
методах документального
кинематографа…
Посуда
пустеет,
народ
постепенно
разбредается,
нам же
спешить
некуда,
потому мы с
Лёшей и
Сашей
Ковалем
остаёмся в
столовой,
продолжая
трепаться
обо всём на
свете.
Подошел,
загадочно
улыбаясь,
Валера:
- Знаете
сколько
Кристофу
лет?..
- Под шестьдесят?..
- угадал я
осторожно, с
учётом того,
что активная
жизнь на
свежем
воздухе молодит
человека по
общепринятому
мнению.
- Сорок семь!..
- Срочно надо
бриться… -
сказал я,
задумчиво помолчав
и пощупав
свою ещё не
бороду, но
уже не
щетину.
- Чего это ты
всполошился?..
– ироничные
смешки и
насмешливые
взгляды.
- В кино
снимаемся,
всё же… Хочу
выглядеть на
«Большом
Экране» свежо
и молодо.
Чужого мне не
надо, но и
своего не
отдам… И
вообще, кто
бы говорил! –
возвращаю я
Валере,
который
всегда, в
любых условиях
ухожен и
выбрит с
германской
тщательностью.
- Пойду
спрошу
режиссёра, не
порушит ли
его художественный
замысел
неожиданное
бритьё
главного
героя… -
сказал я,
решительно покидая
компанию.
На
следующий
день за
завтраком я
сидел гладко
выбритый –
поспешил,
пока Гоша не
передумал – и
разглядывал
Кристофа,
которому
очевидно
было наплевать,
как он
выглядит,
поскольку он
будет прекрасно
выглядеть в
любом
возрасте.
С
Кристофом
Профи я
познакомился
сразу же по
прилёту в
базовый
лагерь.
Собственно,
он был первым,
с кем я
познакомился
в этом
лагере. Вертолёт
улетел, а я,
перетащив к
краю морены свой
рюкзак,
вернулся на
посадочную
площадку за
каким-то
общественным
барахлом.
Среди бочек и
ящиков
копошился,
отыскивая
свои вещи,
рослый
бородатый
мужик явно
заморского
происхождения,
поодаль
сидели трое
парней из
обслуги
лагеря. Когда
я подошел,
мужик
выпрямился,
протянул мне
руку и
приветствовал,
как сторожил
новоприбывшего.
У него были
добрые
заинтересованные
глаза, живая
мимика, и
отчетливый
французский
акцент.
- Вы знаете,
кто это? –
спросил меня
кто-то из ребят.
- Не-а…
- Это Кристоф
Профит…
Слышали о
таком?
- !!!!!!!! – немая
сцена… Кто же
из
образованных
любителей
гор не слышал
о Профите!..
Справедливости
ради, надо
заметить, что
по-французски
его фамилия
читается, как
Профи, с
ударением на
последнем
слоге, но,
учитывая, что
все в лагере
и я сам называли
его Профитом,
я и тут
продолжу
называть его
этим
русизмом. В
своё время, я
уже был высмеян
на форуме
известного
альпинистского
сайта за
педантичную
приверженность
правилам
французской
фонетики,
вовремя не
догадавшись,
что фраза
«стена Пети
Дрю» кажется
забавной
русскому
глазу.
Итак, я стоял
в двух шагах
от легенды
французского
и мирового
альпинизма:
скоростное соло
на
Юго-Западной
стене Пти Дрю
по маршруту American Direct (за 3 часа 10
минут!..), новый
маршрут по
северо-западному
гребню К2 в
связке с
Пьером
Беганом… Всё
это -
бриллианты,
гранённые
для королевских
корон, и даже
если бы их
обладатель
не совершил
более ничего
примечательного
– а он
совершил!.. –
они обеспечили
бы ему место
на троне
альпинистского
королевства…
Король
смотрел на
меня умными,
много повидавшими
глазами и
приветливо
улыбался.
- Хотите мы
вас с ним
сфотографируем?
- Да нет… да
ладно… -
Отмахнулся я.
Нет ничего глупее,
чем искать
знакомства с
великими, а
уж
фотографироваться
на их фоне,
как на фоне
Колизея или
Триумфальной
Арки – верх
пошлости.
Впрочем, это
слабость, которой
подвержены
очень многие,
если не все, и
редко кому
удаётся
устоять
перед искушением
потешить
своё
тщеславие.
И тут Кристоф,
видимо
догадавшись,
о чем идёт
речь, указал
на мой
фотоаппарат
и произнёс
просительным
тоном: «Let's do photo?..». С
французской
элегантностью
и врождённым
тактом он
решил
проблему:
Кристоф
Профит
просил
оказать ему
честь,
сфотографировавшись
вместе с ним
на фоне
Хан-Тенгри, и
я,
разумеется,
не мог ему
отказать…
В
дальнейшем,
наблюдая за
Кристофом, я
вновь и вновь
убеждался,
что являюсь
свидетелем
редкого
природного
феномена:
скромная и обаятельная
личность,
лишённая
малейших признаков
«звёздной
болезни» и
являющаяся
притом
несомненной
звездой
самой первой
величины.
Французов у
нас было
трое, их
звали
Кристоф,
Патрик и
Фантен, и
жили они не
на территории
базового
лагеря, а
прямо на
леднике – в
собственном
просторном
шатре,
похожем на
надувную
летающую
тарелку. У
входа в
шатёр
прозрачным
амурным
намёком были
сымпровизированы три
лежанки – ох
уж эти
французы!.. – но
свободное от
восхождений
время они
проводили,
всё же, не на
них, а в
палатке-столовой,
окруженные
уважением
мужчин и
любовью женщин…
Свято место
пусто не
бывает:
четыре года
назад в этом
лагере
записными
мачо и
заядлыми сердцеедами
числились
испанцы, а
сейчас эта завидная
экологическая
ниша занята
французами,
которые, как
и положено
французам, скорее
сердцееды,
чем мачо, в
отличие от
испанцев,
которые
наоборот…
Отличаясь
друг от друга
многими
внешними проявлениями,
принадлежа к
разным
поколениям и
к разным
социальным
прослойкам,
наши
французы
составляли,
тем не менее,
некое триединое
целое: как
«три
поросёнка»,
«три Толстяка»
или - что куда
больше
подходит к
нашему
случаю - «три
мушкетёра».
Кристоф -
классический
горовосходитель,
прирождённый
альпинист в
старом
добром понимании,
не
замороченный
новомодными
фенечками,
ценящий в
любимом
занятии
глубинную
суть, а не
внешний лоск.
Открытый, разговорчивый,
наводящий
мосты. Всё,
что он делает,
он делает с
любовью и
ненавязчивой
доброй
энергией,
вовлекая в
свои дела
окружающих,
заражая и
заряжая их…
Он плывёт по
жизни, как
большая
любопытная
рыбина,
увлекающая в
свой
фарватер
случившуюся
мелкую рыбёшку...
Не то Патрик:
спортивный
парень в
мужском расцвете,
- в том самом,
когда сил ещё
невпроворот,
но всё уже
доказано и
можно
спокойно заниматься
любимыми
делами и
любимыми женщинами,
очертив
вокруг себя
вполне
осязаемый
круг, куда
посторонним
вход не
заказан, но и
не
приветствуется.
Индивидуалист
и экстремал, –
дитя
объединённого
глобально и
разобщённого
на
индивидуальном
уровне века:
стремительный
забег в
никуда, блестящие
синтетические
достижения,
которыми
легко
восхищаться,
но которым
трудно сопереживать,
поскольку
они
относятся
скорее к индустрии
развлечений,
чем к
созиданию чего-то
осмысленного.
Да хранит его
Бог!
И, наконец,
Фантен:
деловой
человек,
который,
сколько бы ни
ходил в горы,
был и
останется прежде
всего
бизнесменом,
и я говорю
это вовсе не
потому, что я
не люблю
бизнесменов,
- просто он
такой
человек, этот
Фантен.
В горы все
три француза
ходят
по-разному.
Кристоф
приходит в
горы, как к
себе домой, и,
будучи по
профессии
горным гидом,
является таким
образом
своего рода
«надомником».
Для Патрика
горы – арена
самовыражения,
объект, но не
субъект,
палитра с
красками,
которыми он
пишет
сумасбродное
полотно
собственной
жизни. Ну а
Фантен
наведывается
в горы, как
гость, - в
сопровождении
гостеприимного
хозяина
Кристофа. Ему
нравится в
доме Кристофа,
и он думает,
что хотел бы
жить в таком
же, вряд ли
осознавая
при этом, что
у него нет
той
внутренней
свободы,
которая
позволяет
людям
обзаводиться
подобными
домами.
Я много и
внимательно
наблюдал за
этими парнями,
потому что я
люблю
французов и
интересуюсь
ими, несмотря
на всё их
глубоко укоренившееся
высокомерие
и вздорный
национальный
характер. Я
прощаю им с
лёгкостью все
недостатки
только за то,
что эти
породистые,
нервные и
чувственные
люди
понимают толк
в вине и в
женщинах и
всегда умеют
находить
правильное
место для
чашечки кофе
и для постели.
Тот, кто
научился так
жить, имеет полное
право класть
с прибором на
всё прочее
озабоченное
человечество
- я в этом
глубоко
убеждён...
С
пристрастным
любопытством
я отмечал то, как
наши
французы
проявляют себя
в главном,
отдавая дань
вину и
ухаживая за
женщинами,
поскольку
именно вино и
женщины
раскрывают
суть мужчины
лучше, чем что
бы то ни было.
К тому же,
питие вина и
брачные
танцы, чаще
всего,
составляют
естественную
событийную
цепочку, как
именно и случилось
в нашем
французском
случае...
Перед
отлётом,
прощальным
вечером,
когда смутная
тревога
сосёт душу
любого, даже
самого
закалённого
человека,
всяк норовит
выпить вина,
и в этом
плане,
воистину, нет
ни христианина,
ни иудея, ни –
что уже
удивительно!..
–
мусульманина.
Этим вечером
в столовой бушевала
буря:
вздувалось и
опадало с
хлопками
полотно стен,
пиратскими
фрегатами в
штормовом
море
кренились и
скрипели
столы, вздымались
стаканы, а
спиртное
кочевало «от нашего
стола
вашему»,
сопровождаемое
проникновенными
речами и
неудержимыми
признаниями.
Кристоф, как
капитан
корабля,
морской уверенной
в шторм
походкой
слонялся от
стола к
столу,
излучая
энергию и
харизму: сильный
и
вдохновенный.
Вот он
склонился
над иранцами,
произнося
речь, и те
замерли,
прикипая к
нему
влюблёнными
взглядами, а
он, внимательный
и точный,
говорил им об
истине, то есть:
о горах и
вине, и
держал при
этом в загрубевших
пальцах
гранённый
стакан с той
грацией, с
какой держат
бокал за
хрупкую
талию. Каюсь,
я не помню в
точности его
слов, но
помню зато,
как
проливалась
на стол тонкая
струйка из
стакана
очарованного
иранца…
А потом,
когда
сдерживать
нахлынувшие
чувства
стало уже
невозможно,
грянула
музыка, и три
француза
пошли меж
столами в
танце, расправляя
грудь и
стряхивая с
себя последние
путы
условностей,
а за ними
оранжевой
змейкой
потянулись
восторженные,
опьянённые
вином и
невиданной
свободой
иранцы. В
попытке
воспарить и
стать ближе к
вершинам
повпрыгивали
на столы и
танцевали на
них, вовлекая
в танец по
привычке
смущающихся
кухонных
девушек,
температура
зашкаливала,
росло
напряжение
душ, и первые
искры
проскакивали
между телами,
заряженными
противоположными
половыми
зарядами…
Стиралась грань
между танцем
и
ухаживанием:
пылали лица,
лоснилась
повлажневшая
щетина щёк,
мужские
взгляды
приобретали
настойчивую
пронзительность,
а женские –
поволоку…
И вот тут-то и
обнажились
души, и
сказалась разница,
и
подтвердились
мои
интуитивные догадки
и
предположения,
и примечал я
это с тихим
удовлетворением,
поскольку
любовь во
всех её
проявлениях,
от
простейших
до самых
сложных, от
грубейших до
утонченнейших,
–
единственное,
что не
устаёшь
наблюдать, и
единственное,
что не перестаёт
удивлять и
доставлять
наслаждение.
С
сочувствием
и пониманием
наблюдал я
мягкий
интерес
Кристофа,
разведенный
пополам с
самоиронией
и смущением:
огромный добрый
сенбернар,
заигрывающий
с болонкой… С прохладной
отстранённостью
отмечал спокойную
уверенность
Патрика,
привычного получать
то, что
положено ему
по праву
рождения
первым, в
смысле –
лучшим. С
недоумением и
досадой
следил за
Фантеном, за
его рыночным
напором:
самоуверенная,
раздевающая
товар улыбка,
похлопывание
по крупу
приглянувшейся
лошадки...
Замашки
человека,
уверенного в
том, что ему
по карману
вся эта
любовь…
Смотри-ка,
какой умный
нашелся, -
скажет раздраженный
моей не
вовлеченностью
и надменным
«парением
над»
читатель,
предположительно
молодой и
рвущий с
низкого
старта – всё-то
он видит,
всех-то он
судит… А
сам-то ты что
делал на этом
празднике
жизни? В
себе-то самом
слабо
покопаться,
слабо
высветить
для меня,
терпеливого
твоего
читателя,
содержимое
собственных
потаённых
чердачков да чуланчиков,
куда редкий
фрейд
заглядывает?..
"Я",
говорите?.. А
что я… Я мало
пил в тот
вечер, да и
вообще
сторонюсь
массовых
веселий, – танцев
на столах и
прочей
мебели. На
массовых
весельях я
грустнею. Я
не из тех, кого
затягивает
водоворот
повальной
гульбы, я не
удерживаюсь
на волнах
всеобщего разгула:
меня
неминуемо
выбрасывает
на периферию
и прибивает к
тихому
берегу
раздумий и
наблюдений.
Ах, что
за лакомый иранец
-
Его б холить
да обонять!..
А я, невежда и
засранец,
Не захотел
его обнять...
Да, это
странно, это
внове,
Но он ко мне
благоволит:
Мы б стали
братьями по
крови -
Иранец и
исраэлит!
Восторг не
выразить
словами -
Слова увянут,
отомрут,
Когда
скрестят над
головами
Они Коран
свой и
Талмуд!
В ожидании
очередного
вертолёта я
мнусь на
пригорке у
столовой, не
зная, чем
себя занять.
Деловой
уверенной
походочкой,
непроницаемый,
отражающий в
черных очках
небо и горы,
ко мне
поднимается
Гоша
Молодцов:
- Есть дело… -
негромко
говорит он, и
по его
небрежным,
нарочито
легковесным
интонациям я
догадываюсь,
что речь идёт
о деле,
которое вряд
ли мне
понравится, и
сам Гоша
прекрасно
это понимает.
- Пятьдесят
евро – строго
говорю я,
взглядом приглашая
Гошу
изложить суть.
- Вам нужно
обняться с
иранцами
перед камерой.
- Сто – говорю
я после
раздумчивой
паузы – сто за
каждого…
- Деньги – это
к Лёше –
отмахивается
Георгий, непонятно
на что
продолжая
надеяться, – с
персами я
поговорю.
Отснимем это
прямо тут, у столовой.
- Гоша, я не
буду
обниматься с
иранцами.
-
Почему? – К нам
подходит
Лёша и с ходу
включается в
небезразличный
ему разговор.
-
Потому что я
хороший
мальчик, а
хорошие мальчики
не
обнимаются с
чужими
бородатыми мужиками…
- Ты не
современен,
посмотри,
какие они
очаровашки!
- Тот, что
справа, –
вылитый
Ахмадинеджад...
Лёша, забудь
про эту
затею.
- Но почему?..
Что ты против
них имеешь –
что они иранцы?..
- Я ничего не
имею против
иранцев, я
имею против
Ирана, и
забудем об
этом... Почему,
интересно, вы
не предложили
мне
пообниматься
с
бельгийцами
или с румынами?
Почему
именно с
иранцами? По
той самой
причине, по
которой вы
хотите, чтобы
я обнимался
именно с
ними, я и не
хочу с ними
обниматься.
- Но, что в
этом
плохого?!
Ваши страны
враждуют, а
вы, типа, на
личностном
уровне нашли
между собой
общий язык…
Что плохого?..
- А почему вы
решили – «типа», -
что мы его
нашли?!.. Я с
ними двух
слов не
сказал… Это
пошло, обниматься
с людьми
только
потому, что
они граждане
враждебной
мне страны...
Это какое-то
извращение…
Вот, если бы я
с ними
подружился,
залез к ним
за пазуху и
не обнаружил
камня,
тогда другое
дело, тогда я
с ними, может,
и снялся бы в обнимку.
Кстати, где
вы были,
когда я
трепался с
Мехери?
Классная
девчонка:
феминистка, прогрессистка,
антиклерикалка…
С ней бы я
обнялся… -
чего вы
ухмыляетесь?..
- а с этими
мужиками не
буду, не
мечтайте.
К слову, о
Мехери. С
Мехери мы
познакомились
в Каркаре, в
казбековском
чистилище,
где происходит
последняя
селекция
прибывающих,
часть из
которых
забрасывается
вертолётом на
Северный
Иныльчек, а
другая часть
– на Южный.
Произошло
это за ужином
(или за
завтраком, – так
ли это важно…):
к нашему
столу
подошла смуглая
девушка
неопределённой
ближневосточной
наружности,
со следами
тяжких сомнений
на
решительном
от природы
лице.
«Здравствуйте,
меня зовут
Мехери, я из
Ирана…» - она
протянула
руку для
пожатия. Я
заинтересованно
её
разглядывал.
- Я хотела бы у
вас кое-что
выяснить
насчет Хан-Тенгри…
если вы
знаете,
конечно…
- Мы знаем о
Хан-Тенгри
всё, что вы
можете спросить!..
- Вы летите на
южную
сторону или
на северную?
- На северную.
Услышав, что
мы летим на
северную,
Мехери заметно
напряглась,
словно
подтверждались
её худшие
опасения…
- Я сегодня
узнала, что
на южной
стороне часто
сходят
лавины. Что
этот маршрут
опасен: REALLY DANGEROUS…
Это правда?
«Я сегодня
узнала»… хм…
- Да, там есть
объективно
опасное
место на подъёме
– между
первым и
вторым
лагерем.
Заметив в
глазах
Мехери
вопрос, мы
предложили
ей
прогуляться
к карте.
- Вот это
северная
сторона, а
это – южная.
Вот первый лагерь,
а вот второй,
а тут вот
седловина.
Лавины
сходят тут – с
пика Чапаева
на этот участок.
- Поэтому вы
летите на
северную
сторону?
- И поэтому
тоже.
Было
заметно, как
Мэхэри
заметалась,
при том, что в
физическом
смысле она не
сдвинулась с
места…
- Я не люблю
такие места…
Места, где от
тебя ничего
не зависит… -
провозгласила
она
вопросительным
тоном, как бы
ожидая от
нас, опытных,
по всей
видимости,
мужиков,
разрешения
её дилемм и
сомнений, но
мы лишь
сочувственно
пожали
плечами.
На этом мы с
ней расстались:
она
вернулась за
свой стол,
взволнованная
и
озабоченная,
а мы – за свой,
заинтересованные
и даже слегка
возбуждённые
необычным и
перспективным
в
кинематографическом
плане
знакомством.
- Лёша, такое
не
повторяется:
живая иранка
и два
израильтянина
в одной
банке!
- Будем
снимать… – с
видимым
удовольствием
произносит
Лёша, словно
руки
потирает.
- Вы слышали,
чем эта
девица
занимается?
Она борец за
права
иранских
женщин!..
- Кто сказал?..
- Она сказала.
Борец за
права в
Иране!.. Это
вам не
хухры-мухры…
- По-моему, это
круче, чем
Хан-Тенгри…
Но со съёмками
надо бы
поосторожнее:
как бы у неё
проблем не
было на её
трахнутой на
всю голову родине…
- Объясним,
что к чему,
спросим
разрешения...
- Слушайте,
давайте
переманим её
на нашу сторону…
В смысле – на
нашу сторону
горы…
- Это
возможно?
- Черт его
знает... Пусть
поговорит с
Казбеком,
может всё не
так сложно.
Я встаю,
направляюсь
к Мехери и
приглашаю её
за наш стол.
- Мехери, а ты
не хочешь
полететь
вместе с нами
на северную
сторону?
Думаю, это
можно устроить.
- Как?! – Мехери
встрепенулась,
оживились её
тёмные
персидские
глаза, щедро,
по-восточному,
опушенные.
- Попробуй
поговорить с
Казбеком
Валиевым. Между
прочим, мы
снимаем
фильм и
хотели бы взять
у тебя
интервью. –
Лёша куёт
железо, пока
горячо.
- Да-а?!! Вау!!! Я
хочу дать
интервью! О
чём я должна
буду
говорить: о
горах?.. о
политике?
- О чём
захочешь, нам
всё
интересно.
Но… Мехери… у
тебя не будет
проблем,
когда ты
вернёшься
домой? Имей в
виду, мы
собираемся
перевести
этот фильм на
английский и
протащить по
международным
фестивалям…
- Наоборот!
Это то, что
мне нужно:
настоящая трибуна.
Мне ОНИ
ничего не
смогут сделать…
Я юрист по
профессии.
Адвокат.
Многие мои
подруги
сидят по
тюрьмам, но
лично меня ОНИ
не тронут. Вы
представить
себе не можете,
что у нас там
происходит.
Какая…
зажимка…
- Подавление?..
Репрессии?..
- Да-да,
подавление!..
Я буду рада
сказать в фильме
всё, что я
думаю.
- Ты знаешь, у
нас тут есть
два
израильтянина
– Лёша кивнул
на меня и на
Виталика –
тебя это не
смущает?
- Вау!
Израильтяне?!..
Это здорово:
я люблю
Израиль!..
Израиль – демократическое
государство,
в котором уважаются
права женщин…
- Мехери
обласкала
нас взглядом,
и мы с
Виталиком
просияли, как
два
лучезарных
светила,
взошедших
над женоненавистническим
Востоком. Мы
переглянулись
с ним: два
либерала и
демократа,
готовые днём
и ночью
освобождать
узниц
религиозного
мракобесия
от паранджи,
хиджаба и джильбаба…
Утром
следующего
дня, когда
наш вылет на
Северный
Иныльчек был
отложен на
неопределённое
время, и мы
потерянно
слонялись у
столовой, к
нам
выпорхнула
Мехери и
объявила, что
всё улажено
наилучшим
образом: завтра
она полетит
туда же, куда
и мы: на
безопасную
северную
сторону!
Мы
расположились
на скамейке
для беседы: Мехери
в центре, по
обе стороны
от неё – мы с Виталиком,
а Лёша, Саша и
Валера
остались
стоять перед
нами, чтобы
сохранять с
Мехери
прямой, не
опосредованный
контакт.
Сперва
Мехери
поведала нам
о своих
альпинистских
и
скалолазных
похождениях,
но очень
быстро
беседа дала
крен в
сторону
политики, а
затем и вовсе
соскользнула
в эту хорошо
промасленную
колею.
- Вы, живущие в
свободных
демократических
странах, - она
обвела
укоризненным
взглядом двух
израильтян,
трёх
москвичей и
случайно
приключившегося
рядом
гражданина
Казахстана, -
представить
себе не
можете, что у
нас
происходит!
Мы все
виновато
потупились, а
я понимающе кивнул
головой.
- Вы думаете,
иранцы – это
сплошь
тёмные фанатики,
которые
добровольно
посадили
себе на
хребет всех
этих аятолл?!
Лёша сделал
протестующий
жест рукой,
но Мехери его
проигнорировала:
- Мы, иранцы,
народ
образованный,
и в своё время
у нас были
светские
институты,
нормальные
законы,
вполне
свободная, на
европейский
лад
обустроенная
столичная
жизнь, но ОНИ силой
захватили
власть и
отняли у нас
всё это.
Знаете ли вы,
что по
законам
шариата женщина
- не человек?..
Мы с
Виталиком
слабы в
законах
шариата, но знаем,
что он
исключительно
строг к
слабому полу,
поэтому мы
утвердительно
кивнули головой.
- В Иране
женщину за
измену
забивают
камнями до
смерти!.. У вас
в Израиле
такое
возможно?..
- Ну, как тебе
сказать… В
ультраортодоксальных
общинах
крайне
неодобрительно
относятся к
женскому
легкомыслию...
Убить не
убьют, но
рёбра
пересчитать –
это запросто.
Да и, вообще, -
сживут со
свету…
Какое-то
время Мехери
ошарашено
вглядывалась
в меня,
пытаясь понять,
не
разыгрываю
ли я её. Как
почти все диссиденты,
увлеченные
борьбой с
ненавистным
режимом, она
автоматически
зачисляла
оппонирующие
ему народы в
рыцари без
страха и
упрёка… С
одной
стороны, это
печально, ибо
носитель
таких
представлений
обречен на разочарования,
с другой же,
видимо,
неизбежно, а
в каком-то
смысле и
полезно,
поскольку сияющие
за океаном
(или за
Иорданом…)
замки свободы
служат
путеводным
маяком и
доказательством
существования
того Грааля,
за обладание
которым
стоит
сражаться и
сносить
горькие
поражения.
- Да, но ведь
это внутри
общины!..
Перед законами
государства
мужчина и
женщина у вас
равны?.. –
опомнилась
Мехери.
- Да, Мехери,
перед
законами они
равны, а женская
измена не
считается
преступлением.
Да и нет у нас,
вообще,
смертной казни,
- не то что за
женскую
измену, но
даже и за
государственную…
Мехери
облегченно
вздохнула:
- Это потому,
что у вас -
светские
законы, а у нас
право
основано на
шариате, как
в средние века!..
- Ну,
вообще-то, и у
нас они не на
сто
процентов светские…
- задумчиво
произнёс я,
держа за
пазухой «свиной
закон» и
закрытые по
субботам
магазины, - к
тому же,
существует
определённый
уклад, не
оговоренный
никакими
законами, -
некий
"статус кво",
и пока что
никаким
нашим реформаторам
из
либерального
лагеря не удалось
его изменить.
К примеру, у
нас отсутствует
институт
гражданского
брака.
Конечно, с
точки зрения
закона, людям
разных
конфессий не
возбраняется
вступать в
брак, но на практике
им просто
негде это
осуществить.
Чтобы
вступить в
смешанный
брак, такой
паре
придётся
съездить за
границу.
- А
заключенный
за границей
брак
считается действительным?..
- Да, конечно.
- А еврейка,
скажем, может
выйти замуж
за мусульманина?
- Вот это, как
раз, просто…
Если она
примет ислам,
их поженят у
нас в любой
мечети…
Мехери громко
рассмеялась:
- Примет
ислам!.. У нас, в
Иране, вешают
за переход в
другую
религию!..
Эх, Мехери,
Мехери… Разве
же я пытаюсь
сравнивать?..
Я всего лишь
хочу
добавить
немного оттенков
в черно-белую
картину
твоего мира –
того мира, в
котором ты
живёшь и сражаешься…
Мне самому
давно уже не
требуется
девственно
белый фон,
чтобы суметь
разглядеть
очевидную
мерзость, я
люблю краски,
и пытаюсь
поделиться
ими с тобой…
Что и
говорить,
Мехери могла
бы стать
одним из
самых
колоритных
персонажей
нашего кинематографического
калейдоскопа.
Могла, но не
стала… Почему,
спросите вы?..
О!.. Это, как раз,
и есть история
женской
измены, за
которую по
законам
страны, в
которой
Мехери
родилась и
выросла,
следует
неминуемая и
жестокая
расплата...
Ослеплённые,
слепо
уверовавшие
в
неотразимость
своих
мужских
атрибутов: всех
этих
кинокамер,
«моторов» и
софитов, мы упустили
из виду, что
женщина –
даже женщина
несомненно
бойцовской
породы, -
такая, как Мехери,
– существо
внушаемое,
увлекаемое
направленной
мужской
волей, без
которой она –
пух
тополиный,
парящий в
воздухе.
Мы ждали её в
базовом
лагере, мы
были уверены
в её прилёте,
но коварный
Виталик,
Виталий
Гуревич, мой
соотечественник
и просто добрый
знакомый
украл нашу
персидскую
княжну:
бросил
поперёк
вертолётного
седла и махнул
с нею через
главный
тянь-шаньский
хребет на
южную
сторону.
И
очарованная
молчаливым
иудейским
принцем,
забила она на
все
опасности
лавин и ледопадов,
а заодно и на
весь наш
документальный
кинематограф,
обещавший
предоставить
ей
вожделенную
якобы
политическую
трибуну,
потому что
женщина – это
всего лишь
женщина, и
будучи
оторванной
от мужчины (и
даже
сознательно
оторвавшись…),
она не пустит
собственных
корней, а
будет катиться
перекати-полем
к подножию
следующего коренастого
древа, - и
потому
простили мы её
сразу,
досадливо
всплеснув
руками и поморщившись…
Но ты,
Виталий, - не
стыдишься ли
ты своего поступка?
Мы приняли
тебя, как
брата, когда
бездомный и
одинокий мял
ты сухой
ковыль в степях
у
погранпукта.
Помнишь, я
привёл тебя к
нашему джипу
и сказал всем:
«это Виталий
Гуревич –
гордость
нашего молодого
израильского
альпинизма.
Он поедет с
нами,
поскольку он
мой друг и
просто хороший
человек.
Пожалуйста,
подвиньтесь
и дайте ему
место!» И ты
сел, и поехал
с нами в Каркару,
и кушал за
нашим столом,
и сходил с
нами на одну
невыдающуюся,
но
породнившую
всех нас
вершину...
А потом ты
взял и украл
у нас Мехери,
пользуясь
мягкостью
нашего
иудейского
закона и необязательностью
московского...
Вот и навис
над нами
четвёртый
выход на гору...
Незадолго
до этого, мы
заспорили на
тему наших планов,
поскольку
требования,
касающиеся съёмки
фильма, стали
приходить в
явное противоречие
с чисто
альпинистской
логикой восхождения.
Если бы целью
четвёртого
выхода стало
восхождение
на вершину,
то нам следовало
идти наверх
максимально
облёгченными,
в быстром
темпе, нигде
не
задерживаясь,
особенно,
если погода
тому
благоприятствует.
Лёша же с
Гошей
задумали
организовать
серьёзные
съёмки на
пике Чапаева
и на седловине,
причем на
седловине
планировалось
уделить этому
целый день,
желательно -
солнечный...
Восхождение
же на вершину
рассматривалось
ими, как цель
второстепенная
в сравнении
со съёмками
фильма, что
вызвало у
меня некоторый
дискомфорт и
даже протест,
хоть и звучало
вполне
логично: мы
ведь
участвовали
в "киноэкспедиции".
Надо сказать,
я изначально
настраивал
себя на то,
что главным в
этой поездке
станет для
меня не
вершина
Хан-Тенгри, а
всё то, что
сопутствует
попытке её достижения
в рамках
такой вот
экспедиции:
новый опыт,
новые люди,
интересные
знакомства и
связанные с
этим
возможные
неожиданные перспективы.
Я был
настроен
честно
работать и
выкладываться
до конца, но к
самой вершине
относился
довольно
спокойно. Так
мне, по
крайней мере,
казалось...
Идея фикс под
названием
"взойти на
семь тысяч",
которая привела
меня на Хан
четыре года
назад, благополучно
осуществилась
- и,
соответственно,
скончалась... -
пару лет
назад на пике
Ленина, и с
тех пор я не
ношусь ни с
какими
"количественными"
идеями...
Вся эта
кинематографическая
эпопея виделась
мне эдаким
«знаком
свыше». Она
упала на меня
в переломный
момент жизни,
подводила
черту под
прошлым и открывала
дверь в
будущее - так
мне казалось
в то время, - и
на фоне всего
этого
вершина Хан-Тенгри
выглядела
желанным, но
отнюдь не обязательным
элементом в
процессе моего
"восстания
из пепла"...
Результатом
наших споров
стал некий
компромиссный
вариант,
который, хоть
и примирил
альпинизм с
кинематографией,
но обещал быть
весьма
обременительным
в плане временных
и трудовых
затрат. Мы
закладывались
на целых пять
выходов на
гору, из
которых два
последних -
на седловину
и выше.
Главной
целью
четвертого
выхода была
заявлена
съёмка. Её
нуждам будет
подчинено всё:
мы будем
задерживаться
в высотных
лагерях и на
переходах
столько,
сколько она
потребует.
Вместе с тем,
мы оставили
себе и
некоторую
лазейку: если
погода и самочувствие
на седловине
позволят, а
съёмочные
планы
окажутся
выполненными,
мы сделаем
попытку
восхождения.
Ну а если
такая попытка
не состоится
или окажется
неудачной, мы
совершим ещё
и пятый
выход, в
котором всё
уже будет
подчинено
достижению
вершины.
Что и
говорить...
втайне я
надеюсь,
мечтаю, хочу
верить, что
он нам не
понадобится...
Пока же, у нас
есть два дня
для того
чтобы отдохнуть
и набраться
сил, но мы
тратим их на гулянки,
возлияния и
досужую
трепотню.
Напряжение
завершившегося
третьего выхода
отпускает
наши тела, и
лишенные его
мобилизационного
действия они
слабнут, размягчаются,
разваливаются
на части, -
позволяют
себе то там
поскрипеть,
то тут
поболеть... Забитые
молочной
кислотой
мышцы и так и
не прошедшая
полностью
одышка
делают нас
малоподвижными.
С самого
утра Лёша
пребывает в
растрёпанных
чувствах:
душевное
томление,
которое требует
выхода.
Наконец,
решившись на
поступок, он
извлекает из
продюсерского
резерва бутылку
Hennessy, и
мы - он, Гоша и я -
починаем её
прямо на
скамеечке у
столовой.
На душе
пасмурно и
бесприютно, и
окрестный пейзаж
– подстать.
Хмурый
безучастный
Хан поигрывает
тощим,
измученным
облаком: то
отпускает
его в полёт,
то ловит за
хвост и накалывает
на вершину -
словно
подшивает
использованную
квитанцию.
Облако трепещет
и
изгибается
в
предсмертной
агонии...
Лагерь
притих и
опустел:
улетели иранцы
и французы, и Hennessy
столь
удачным
образом
заполняет
образовавшуюся
пустоту, что
Лёша
отправляется
за второй
бутылкой.
Круг участвующих
в
"коньякинге"
непрерывно
расширяется,
и вскоре мы
переходим в
столовую, а
когда
заканчивается
и второй Hennessy,
откуда-то
прилетают
два
"Журавля"...
Второй день
мы пытаемся
увлечь Гошу
идеей горовосхождения,
но Гоша
остаётся
непреклонен
в своей решимости
не покидать
базовый
лагерь.
- Гоша, ты
должен
подняться
хотя бы в
первый лагерь,
- говорим мы
ему - разве
это не важно
для
режиссёра
соприкоснуться
с объектом своего
фильма,
прочувствовать,
пропустить через
себя все те
эмоции,
которые
переживают
участники
восхождения,
разве это не
способствует
лучшему
пониманию и
проникновению
в тему?..
- Нет, -
говорит нам
Гоша,
озабоченно
покачивая
взъерошенной,
не
прибранной
ввиду позднего
подъёма
головой - у
меня в высшей
степени
развито
художественное
воображение,
и вся эта
гора и всё,
что на ней
находится сидит
у меня вот
здесь… - Он
выразительно
стучит
суставчиком
указательного
пальца по
вместилищу
художественного
воображения...
- Инструмент
режиссёра -
не ноги, а
голова, и место
его не на
передовой, а
у пульта
управления, в
дирижерской
яме -
продолжает
Гоша
назидательным
тоном, под
"дирижерской
ямой"
подразумевая,
очевидно,
ложбину Северного
Иныльчека, а
склоны
Хан-Тенгри приравнивая
к передовой.
- Но, Гоша,
почему бы
тебе хотя бы
не попробовать?..
Быть может,
ты откроешь
для себя
что-то новое
и неожиданное,
увидишь тему
и объект
своего
творения под
иным углом.
Быть может, -
только для
примера,
поскольку
такого,
конечно же,
не может
случиться на
самом деле... -
восхождение
на гору
покажется
тебе со
склонов Хана не
маршем
просветлённых
личностей,
шагающих в
экстазе к
головокружительным
высотам, а
унылым
караваном
мазохистов и
поразит тебя
не сиянием
льдов, а
вонью немытых
тел и
нестиранных
носков?..
Разве
приобретенные
опыт и
причастность
не освежат
твой фильм, не
придадут ему
тёрпкости и
остроты, а,
быть может, и
развернут
его в новом,
неожиданном
направлении?..
Подбрасывать
в топку
воображения
поленца
реальности -
это ведь
полезно для
истинного
художника...
Нет?
Гоша
качает
головой и
задумчиво
смотрит вдаль,
- за
оловянную
жесть
облаков, в те
доступные ему
одному миры,
откуда
взирают на
него, привечая,
великие
коллеги и
предшественники
- режиссёры-документалисты,
мудрые и всё
понимающие, в
отличие от
нас,
непосвященных...:
- Я не могу... -
говорит он
нам печально,
- я хочу, но не
имею права...
- На что ты не
имеешь права,
Гошенька?.. -
спрашиваем
мы
оторопело...
- Не имею
права
рисковать
своим
мозгом... Не могу
рисковать
вот этим... - Он
прикладывает
указательный
палец к тому
месту, где
находится
мозг у всех
высших
многоклеточных,
не исключая и
кинодокументалистов...
- Если я
заболею, -
сокрушенно
продолжает,
Гоша - это
нанесёт
непоправимый
вред всему нашему
проекту... Вы
не
представляете
себе, как бы я
хотел быть с
вами - там, на
горе, но я не могу,
- просто не имею
морального
права...
Знаете, как
это называется
у нас, у
художников?..
Это
называется: "Ответственность
Художника За
Своё Произведение"!
Мы сражены и
обезоружены,
мы покорены…
Мы долго
молчим,
подавленные
величиной
Гошиной
ответственности
и мощью его
самообладания...
По мере того,
как
приближается
время нашего
выхода,
погода
портится: не
торопясь,
словно зная,
что мы всё
равно никуда
от неё не денемся.
Спустилась
с горы
расстроенная
Красимира,
прервавшая
своё
восхождение
на середине
вершинной
башни по
причине
потери
фотокамеры:
"я была к нему
так
привязчива...
Он летел, и - ах!..
я не мОгу поверить!..
Всё
пропадаешь, -
все
фотографии, такой
несчастнический
прошествие...
и мне не
нУжна
вершина - я
пОшла вниз..."
Она сокрушенно
покачала
головой и тут
же, безо
всякого
перехода,
широко и
солнечно
улыбнулась
подошедшей
Вере, - словно
включила
внутри себя
запасную
лампочку
взамен
перегоревшей.
- Красимира,
постой тут, я
сейчас
вернусь... - Говорю
я ей и
уношусь к
своей
палатке. Я
вспомнил, что
притащил с
собой в
базовый
лагерь
кое-какие
безделицы: в
качестве
сувениров, -
так, на
всякий случай.
Порывшись в
пакетах с
вещами,
извлекаю пару
"хамс".
"Хамса"
("пятерня" на
арабском) -
это амулет от
сглаза,
популярный
на Ближнем
Востоке - редкое
единодушие!.. -
и среди
евреев, и
среди арабов.
В центре стилизованной
ладони, чаще
всего,
изображен глаз,
очевидно, в
соответствии
с идеей о
лечении
подобного
подобным...
Арабы
именуют хамсу
"рукой
Фатимы", а
евреи - "рукой
Мириам", сходясь,
таким
образом, хотя
бы в том, что
рука
принадлежит
именно
женщине.
Красимира
принимает
подарок с
бурной радостью
открытой и
непосредственной
личности.
- Когда я
вернусь
домой, я
перешлю тебе
свои фотографии.
Я снимал и
тебя, и
вообще -
лагерь, гору,
людей.
Конечно, это
не заменит потерянного,
но это лучше,
чем ничего...
Для
Красимиры
всё уже
закончилось,
а мне пора
собирать
рюкзак.
В тоске
поглядываю я
в набухающее
небо. Провисло,
черт бы его
побрал, как
вымя старой коровы:
дёрнешь за
сосок, и
прольётся на
тебя тощее
ледяное молочко...
В палатку
заглядывает
Лёша:
- Рита
предлагаем
нам смерить
давление
- Это ещё
зачем?..
Меньше
знаешь -
лучше спишь...
Лёша
понимающе
хмыкает, но
проявляет
неожиданную
приверженность
дисциплине:
- Ну да,
вообще-то... Но
проверить
стоит, я
думаю, раз
так принято.
Врач Рита –
миловидная (и
действительно
милая…)
женщина –
ввела эти
проверки
после того как
у одной из
девиц
украинской
команды
случилось
резкое
падение
давления (что,
впрочем, не
помешало ей,
после
некоторого
отдыха,
взойти на
гору...)
На медосмотр
мы явились
всей своей
дружной кино-командой.
Привели с
собой даже
Гошу, который,
хоть и не
собирался
идти на гору,
но представлял
повышенную
ценность для
производства
нашего
фильма и для
мировой
культуры в
целом...
- Рита, а норма
для этой
высоты
отличается
от нормы на
равнине? - я
протягиваю
руку, и
надувной
рукав плотно
охватывает
мой не
борцовский
бицепс.
- У
каждого
по-своему... Но,
обычно,
нормальным мы
тут считаем
сто сорок на
девяносто.
Я скашиваю
глаза на
пульсирующую
стрелку...
- Сколько?
- Сто
пятьдесят на
сто десять.
Чуть
повышенное.
- Не страшно?..
- Не страшно...
Мы с
интересом и
некоторой
ревностью
выясняем
друг у друга
полученный
результат. У
Лёши и Валеры
- сто
шестьдесят
на сто
десять, а у
Саши Коваля -
базлаговская
норма... Как в
аптеке. Саша
одаряет нас
мудрой
улыбкой и загадочно
улыбается,
как
картёжник,
знающий
прикуп и лишь
по
собственной
причудливой
прихоти
оказавшийся
не в Сочи, а на
забытом
Богом
леднике.
Последним,
невозмутимо
поблескивая
очками, из
"медпункта"
спускается
Георгий
Молодцов.
Молчит,
смотрит в
даль...
- Ну?..
- Что ну?..
- Давление
какое?..
- А, давление...
Сто двадцать
на
восемьдесят.
- ????
- Что-то не
так?..
- Да тебя,
блин, в
космос
отправлять
можно!..
- Активная
творческая
жизнь
благотворно
влияет на здоровье.
- Небрежно
пожал
плечами Гоша,
и в этот
момент начал
сеять
ледяной
дождь, по
которому нам
вскоре
предстояло
месить
грязный
снежный
склон, увязая
почти по
колено, а потом
продрожать
всю ночь в
промозглой,
сырой
палатке,
чтобы утром
снова
увязать в снегу,
и я понял, что
он тысячу раз
прав, этот Гоша,
предпочитая
всему этому
дирижерскую
яму и
дирижерскую
долю, и лучше
бы это я учился
во ВГИКе и
режиссировал
фильмы о
мужественных
восходителях...
Вышли ближе
к вечеру, -
примерно в
пол-пятого.
Втроём, поскольку
Саша Коваль
решил не
растягивать
предстоящее
удовольствие,
а идти завтра
во второй
лагерь
прямиком из
базового.
Дождь
барабанит по
капюшону
«гортекса» с
весёлым
упорством
идиота –
минута за
минутой, час
за часом.
Промокли
брюки,
купленные в 1989
году перед
горным
походом
второй
категории сложности,
набухли
флисовые
перчатки. По
лицу текут
талые
мартовские
ручьи, ноги
разъезжаются
на вымытой из
ледника
каменной крошке.
Иду через
силу, помирая
под грузом вчерашнего
Hennessy, не
говоря уже о
«Журавлях»,
ругаю себя за
проявленную
слабость
характера.
Поднимаясь
зигзагами по
склонам пика
Чапаева, мы
несколько
раз
пересекли
грузные, как
бы
раздавленные
собственным
весом и распавшиеся
на комья
конуса
мокрых лавин.
Пару дней
назад их тут
не было.
Смотрю вверх
по склону в
сырую
клочковатую
мглу, откуда в
любой момент
может ухнуть
очередная
порция:
сметёт и не
заметит...
Когда
выходим на
гребень,
становится
спокойнее
душе, но не
телу:
разгулявшийся
ветер насквозь
продувает
мокрые брюки,
колени мёрзнут.
Рук я вообще
не чувствую,
но менять
перчатки
означает
намочить и
вторую пару,
поэтому я
яростно
растираю
пальцы при
любой
возможности
и отогреваю
их во рту. С
тоской думаю
о наверняка
подмокшем
спальнике,
который я,
идиот, не
упаковал в
полиэтиленовый
мешок, о сырой,
мерзкой ночи,
которая нас
ожидает, и о
морозном
утре, которое
покроет нас
ледяной коркой...
Останавливаюсь,
слизываю с
усов воду,
снимаю
перчатку,
сжимаю и
разжимаю
кулак, засовываю
пальцы в рот...
В итоге,
однако, всё
оказалось не
так страшно,
как тщилось
нарисовать
мне моё
воображение:
дождь
перестал, как
только мы
вышли на
гребень, а
пронизывающий
ветер, хоть и
морозил руки,
но сушил
одежду,
которая
сохла так же
быстро, как и
намокала...
Спальник
промок лишь
чуть, и
небольшое
мокрое пятно
высохло за
ночь от тепла
моего
спящего и
видящего сны горячего
тела, работа
же по подъёму
этого тела в
первый
лагерь
избавила его
– тело – от расслабляющей
базлаговской
лени и паров
алкоголя, так
что утром
следующего
дня оно легко
встало и
легко вышло
наружу.
Было тепло и
пасмурно, и
всюду лежал
тяжелый, влажный,
зернистый,
как икра
снег. Ледники
Северной
Стены
потяжелели и
набухли,
словно мешки
под глазами
немолодой
бабы,
похерившей
макияж после
бурной ночи...
То тут, то там
соскальзывали
и стекали по
скулам скал замедленные
расстоянием
снежные
потоки.
Я
позавтракал
и вполз
обратно в
тёплое брюхо
спальника.
Сегодня мы
никуда не
пойдём – мёртвый,
глупо
потерянный
день...
Впрочем, для
фильма он
вовсе не был
потерян, и
даже
наоборот: мы
снимали
много и
плодотворно!
Сперва, в
лагерь
спустились
питерцы.
Первая двойка
питерцев,
движимая
желанием
оказаться в
базовом
лагере как
можно скорее,
просвистела
мимо нас, не
задерживаясь.
Мы не то что
снять, -
разглядеть
их не успели!
Чуть позже,
появились
ещё трое: два
молодых крепких
орешка вели
под уздцы
весёлого
остролицего
мужика,
которого они
назвали
«приболевшим»,
хотя
выглядел он
скорее
подвыпившим.
Парни
спустились
сегодня с
вершины, спешили
вниз, были
уставшими
вусмерть, а
потому не
годились для
взятия
интервью, - и
очень жаль,
потому что
заросший
щетиной по
самые лихорадочные
глаза свои
"больной"
Алик показался
мне на
редкость
колоритной
личностью,
могущей
украсить
любой фильм -
хоть художественный,
хоть
документальный.
Он размахивал
руками,
опасно
покачивался,
тяжело вздыхал
и громко
жаловался
всем
окружающим
на «отсутствие
высотного
секса», хотя,
на мой непредвзятый
взгляд, в тот
момент – и тут
я подчеркиваю:
речь идёт об
одном
единственном
конкретном
моменте – не
выглядел
человеком, способным
к какому бы
то ни было
сексу: что к
высотному,
что к
техническому...
Затем, к нам
спустились
Денис Урубко
с Геной
Дуровым. Гена
при первой же
возможности
пристроился
на рюкзаке,
принял от нас
чай в крышечке
от термоса и
молча выпил,
а Денис, внутри
которого
сидит
атомная
батарейка двадцать
второго века,
сходу стал
давать нам очередное
интервью,
картинно
жестикулируя
недопитой
кружечкой...
Каким-то
непостижимым
образом он
вновь очутился
на
возвышении
на фоне
Северной Стены,
словно
горный
ландшафт сам
развернулся
вокруг него,
создавая необходимый
ракурс. Речь
его была
гладка и вдохновенна,
как будто
провёл он эту
неделю не в
поисках
пропавшего
поляка, а в
репетициях и
пробах...
После
интервью с
Денисом и
Геной у нас
состоялся
перерыв на
обед, за
которым
последовала
блаженная
сиеста: я валялся
в гостях у
Валеры и
мусолил
журнал «Огонёк»,
изменившийся
неузнаваемым
образом с тех
пор, как я
последний
раз держал в
руках его
номер.
Впрочем, не
исключено,
что это я
изменился
неузнаваемым
образом…
Вероятнее же
всего -
изменились
мы оба…
Надо сказать,
в лагере
имелось и
чтиво
погорячее: настоящий
живой
«Плэйбой», но
получить его
в
пользование
было так же
немыслимо,
как двадцать
пять лет
назад
раздобыть
номер «Огонька»,
в котором
стыдливо
обнажала
свои коленки
правда,
победно
провозглашенная
«голой»…
«Плэйбой»,
залистанный
до дыр на
самых пожароопасных
женщинах,
ходил по
рукам
молодых восходителей,
нам же,
«зрелым
мужчинам»,
оставалось
довольствоваться
«Огоньком» и
красотами
природы.
Когда я
совсем было
решил, что с
интервью на
сегодня
покончено, в
лагерь
спустился
Илья
Левченко,
известный в
среде
виртуальных
альпинистов
своими
скандальными
взглядами на
некоторые этические
аспекты
высотного
альпинизма.
За многие
годы мировое
альпинистское
сообщество
так и не
пришло к
единому
мнению насчет
того, работает
ли на «высоте»
(имеются в
виду горы восьмикилометровой
высоты, а не
балкон шестнадцатого
этажа…)
общечеловеческая
мораль, - в
условиях, ни
коим боком не
человеческих,
а так же:
нужно ли
спасать
попавшего в переделку
человека,
который «сам
дурак», а у
тебя
пропадает
отпуск и за
всё заплачено.
Разумеется,
в стране, где
поголовный
коллективизм
был возведен
в ранг
государственной
религии, где
даже
крохотное
яблочко делилось
руководителем
группы на
гомеопатические
дозы между
всеми
участниками,
этот вопрос
был решен
давно и
однозначно, и
один только
Илья
Левченко
позволял
себе
периодически
диссидентствовать
– пятнать
своим "особым
мнением"
безупречно
чистое
полотно
общенационального
консенсуса.
Насчет Ильи
с нами
специально
связался Гоша.
Он приказал
нам взять
Илью любой
ценой, - Илья
был для него
ценным
экземпляром:
«К вам
спускается
Илья Левченко.
Возьмите у
него
интервью, он
говорит про
альпинизм
всякие
странные
вещи - не так,
как другие.
Что-то вроде
того, что
внизу все
люди – как
собаки, а
потому они
ходят стаями,
помогают
друг другу,
ведут, короче
говоря,
социальную
жизнь, а
альпинист на
маршруте –
это волк, и
потому в
горах каждый
сам за себя…
По-моему, он
тут один
такой, но вы с
ним не
ругайтесь:
пусть скажет
всё, что
думает… Нам
нужны в
фильме разные
точки зрения.
РАЗНЫЕ!» –
подчеркнул
Гоша.
Спустившийся
с вершины
Илья
выглядел до последней
жилки
уставшим
человеком, но
как истинный
боец зачем-то
не сдавался и
наговорил в
микрофон
добрых
полчаса,
периодически
тяжело дыша,
роняя голову
на грудь или
протирая
утомлённые
ультрафиолетом
и ветрами
глаза –
воспалённые,
навыкате.
Я был
категорически
не согласен с
ним почти по
всем пунктам,
и дело было
даже не в
«пунктах», а в
каком-то
глубинном
изъяне,
которым страдала
вся эта его
механическая
логика, но моя
роль была –
держать
микрофон и
молчать в тряпочку,
а потому я
был хмур
лицом,
насуплен и
излучал
подспудный
протест.
«Ян, вы
маячили на
заднем плане
с постным лицом,
портя
атмосферу
кадра» -
заметил мне
потом Гоша с
жестким,
ничем не
смягченным
укором…
Ну, что же,
Гоша, теперь,
задним
числом, я
признаю свою
неправоту…
Но пойми же и
ты меня, Гоша:
мне трудно
держать
микрофон у
чужого рта, и
труднее того
– держать
свой язык за
зубами… Я
люблю
говорить, и
мне есть что
сказать
почти на
любую тему, а
из такого
человека
разве
получится
хороший интервьюер?..
- Гоша просил
нас отснять
людей,
поднимающихся
по гребню к
нашему
лагерю –
напомнил Валера
Лёше, и они
собрали
съёмочное
оборудование
и ушли на
гребень, по
которому
люди поднимаются
к первому
лагерю, а мне
они сказали,
что я им не
нужен, и что я
могу отдыхать,
хотя я хорошо
уже отдохнул
в этот день, и
они это
прекрасно
знали, - да и
что за удовольствие
валяться
одному в этой
крохотной,
душной
палатке… Я не
страдаю
клаустрофобией,
но такое
лежание
нагоняет на
меня тоску,
меня
посещают
дурные мысли
о
бессмысленности
нашего
существования,
и сильнее
обычного
хочется
тепла и
душевного
участия,
которое
неоткуда
взять на этом
скальном
пятачке, со
всех сторон
окруженном
сплошными
явлениями
природы, –
большей частью
опасными…
Перекатившись
с боку на бок,
поёрзав и
почувствовав,
что градус
моего
настроения
неуклонно
ползёт к
нулевой
отметке, я
выполз в тамбур,
напялил на
ноги
пластиковые
ботинки и
отправился
на гребень -
наблюдать,
как мои
друзья
исполняют
Гошин творческий
заказ.
Более всего
это
напоминало
классическую
партизанскую
операцию:
колонна
альпийских
стрелков
медленно
ползёт вверх
по узкому
гребню,
посередине
которого, по
обе стороны
от тропы,
залегли две
крохотные
ярко-зелёные
фигурки.
Хилая
маскировочка,
подумал я, но,
похоже,
альпийцы
слепы, как новорожденные
мыши…
Кузнечики в
засаде - это наши:
Валера и
Лёша. Лёша
наводит
Валеру на цель.
Валера
подпускает
врага
поближе и направляет
на серую
колонну
какую-то
штуковину,
похожую на
наплечную
ракету. От
таких штук
красиво
взлетают в
воздух и
распадаются
на
полыхающие
осколки
импозантные
мафиозные
авто в дурных
боевиках…
Колонна
продолжает
медленно и
печально, как
похоронная
процессия,
наползать на
моих
приятелей.
Вот она
оказывается
между Лёшей и
Валерой, и Валера
медленно
разворачивается
со своим RPG в мою
сторону.
Раздаётся
отчаянный
вопль: «Уйди
из кадра-а!!!», и я
одним
длинным
прыжком, рискуя
загреметь в
трещину,
отпрыгиваю
от края своей
наблюдательной
площадки…
Когда Гоша
инструктировал
нас в базовом
лагере, он
сказал так:
- Мне нужна
колонна.
Колонна
альпинистов,
идущих в гору
по узкому
гребню. Их
должно быть
много – чем
больше, тем
лучше! В
идеале –
десятки,
сотни
альпинистов,
упорно
ползущих, как
муравьи к
заветной
цели! Они – и
гора! Одна на всех!
И они - такие
разные, но
все - на неё
одну!.. Хм… Да… И
мне нужно,
чтобы они
смотрели
вверх на вершину.
Это будет
грандиозно!..
Я уже вижу
это смонтированным,
и это -
грандиозно!..
- Гоша, если
они будут
смотреть
вверх, а не под
ноги, они
могут
наебнуться с
гребня… - Лёша
осторожно
озвучил
доводы рассудка.
- Тогда пусть
смотрят под
ноги, но,
проходя мимо
вас,
непременно
глянут вверх.
Глаза! Глаза-а!
Мне нужны их
глаза!.. – хищно
произнёс Гоша,
и мы не
рискнули ему
возразить.
От
следующего
дня, от перехода
во второй
лагерь у меня
не осталось
ни записей,
ни
воспоминаний,
ни даже
фотографий,
да и так ли
это важно –
очередные
семь, восемь
или девять
часов
унылого
продвижения
по тому же
самому
надоевшему
до тошноты
маршруту…
Мало что смог
вспомнить и о
пребывании
во втором
лагере.
Помогла одна
единственная
имеющаяся
фотография:
Лёша подшивает
израильский
флаг к
гирлянде из
флажков
"всех стран и
народов". Это
был забавный эпизод,
о котором
стоит
рассказать,
тем более,
что это
единственное
моё
воспоминание
о том дне.
Одно из
заданий,
которыми
Гоша снабдил
нас перед
этим выходом,
заключалось
в съёмке флагов,
гордо реющих
над
«вершиной»…
Задание это
лично меня
раздражало
безумно. По
целому ряду
причин оно
действовало
на меня, как красная
тряпка на
быка.
Во-первых, я
ненавижу
патетику,
особенно в
применении к
горам. Горы
должны
оставаться
делом интимным
для любящего
их человека,
которого туда,
в горы, то
есть, никто
не гонит… Чай
не война.
Во-вторых, -
это же
банально… Что
может быть
банальнее
такого
символа?.. «Все
флаги в гости
будут к нам»… - у
меня от всего
этого сводит
челюсти, как
от лимона…
В-третьих, я
не верю в
какую-то
особую
«дружбу
народов», якобы
царящую на
горных
кручах. Да, -
никто тут не
бросается
друг на друга
с ледорубом,
но вменяемые
«дети разных
народов» -
даже
враждующих
между собой
народов - и на
равнине не
бросаются
друг на
друга, чтобы
там они друг
о друге не
думали… В
горах же и
вовсе
действует то,
что я называю
«эффектом
ковчега»:
чужая, а
точнее –
ничья территория,
«каждой твари
по паре»… Даже
животные на
нейтральной
территории и
у мест
всеобщего
водопоя
ведут себя
скромно... Это
было
в-третьих… А
в-четвёртых,
высота и усталость
делают
человека
раздражительным,
а тут
какие-то,
блин, флаги!..
Детский сад,
блин…
Лёша извлёк
из рюкзака
моток шпагата
и ворох
разноцветных
флажков:
российский,
румынский,
иранский,
«бандеровский»,
какие-то ещё –
штук десять
общим числом.
- У тебя,
кажется, был
израильский?..
- Угу…
- Можешь
найти?
- Угу…
Шарю во
внутреннем
кармане
рюкзака,
достаю
израильский
флажок. Лёша
озадаченно
его
разглядывает:
- А почему
такой
маленький?
Меньше всех…
- Какая
страна, такой
и флаг…
Лёша
любовно
подшивает
флажки на
шпагат, после
иранского
берётся за
израильский.
- Почему это
наш флаг
рядом с
иранским? –
подозрительно
спрашиваю я.
- Это такой
примиряющий
символ…
- Опять
«обниматься»?..
Не, не хочу –
примиряй кого-то
другого…
Я знаю, что
Лёше
непонятны
мои мотивы и
подыскиваю
объясняющий
пример.
Часто,
единственное,
что может
помочь в
подобных
спорах, это
хороший
наглядный
пример.
- Представь
себе, что в
годы Второй
Мировой кто-то
посторонний –
житель
Буркина-Фасо,
например, – в
качестве
миротворческого
жеста подшивает
фашистский
флаг к
советскому или
японский к
американскому.
Любой русский
или
американец
открутил бы
ему башку,
нет?..
- Понятно… -
кивнул
головой Лёша.
К кому тебя подшить?..
- К кому
хочешь,
только не к
Ирану… Если
на экране наш
флаг будет
висеть рядом
с иранским, после
тех тысяч
ракет,
которые
попадали у нас
на севере
пару лет
назад, я
потеряю всех своих
друзей - усмехнулся
я…
- Подшить вас
к России?..
- К России
подшивай –
нет проблем.
И Лёша
подшивает
Израиль
между
Россией и Румынией,
кляня в душе
этих
несговорчивых,
непонятных,
никакими
аршинами не
мерянных закадычных
ближневосточных
врагов…
- А что мы
будем делать
с этими
флагами, если
не
поднимемся
на вершину? В
этот выход мы
на неё вряд
ли поднимемся…
- Отснимем
этот эпизод
на вершине
Чапаева… - произносит
Лёша,
задумчиво
оглаживая
«бандеровский»
флаг. Я
оглушено
молчу,
пытаясь понять
по его лицу
смысл этой шутки.
- Как это «на
вершине
Чапаева»?.. Ты
это серьёзно?
Лёша
поднимает на
меня усталые
глаза. На этот
раз он вполне
понимает
подоплёку
моей реакции…
- Так захотел
Гоша. В конце
концов, – это
же фильм, и
сцена с
флагами –
чисто
символическая.
Не всё ли
равно
зрителю, на
какой
вершине они
сняты…
- Подожди … Но
фильм-то не
художественный,
мы же не
снимаем К2 в
Татрах…
Восхождение –
вполне
настоящее, и
мы же не
актёры. Это к
Сталлоне
никто не
пристанет с
вопросом,
почему он стоит
на каком-то
«Лысом
Пупыре», а по
фильму – это
вершина
Эвереста, но
мы-то не актёры,
- нас
поднимет на
смех всё
альпинистское
сообщество…
И, вообще, как
ты себе это
представляешь:
мы с тобой,
как два
идиота, будем
стоять с
флажками на
пике Чапаева,
а под нами
будет плыть
патетический
текст о
вершине
Хана?.. Лёша, ты
как хочешь,
но меня в
этом кадре не
будет…
- Не кипятись…
- говорит мне
Лёша, темнея
лицом - я
думаю, мы
отснимем
только флаги…
без людей…
это будет
чистейшая
символика –
не более
того…
Я молчу, я
помогаю Лёше
подшивать
флажки, но я
твёрдо знаю,
что мне не
нравится вся
эта затея с
флагами: вся…
во всех её
аспектах…
На вершине
Чапаева
задувал
ветер, и
верёвка с
флагами
выгибалась
широкой
дугой. Флаги
трепетали и
протестующе
щёлкали, а мы
снимали уже
наверно
десятый
дубль… «Сделай
шаг влево и
присядь» –
говорит мне
Валера, помня
о моём
параноидальном
нежелании оказаться
в кадре – «…и
положи конец
верёвки на
снег…». Я
послушно
исполняю
свой
кинематографический
долг, но всё
во мне кипит
и негодует:
все
многолетние
мои рефлексы
и инстинкты
бунтуют и
шипят мне в
ухо: «надо валить
отсюда, надо
валить!..» -
валить на
седловину,
где не
известно ещё,
найдём ли мы
пещеру, в
каком она
будет
состоянии и
не потребуются
ли
длительные
снегоуборочные
работы…
Я
поражаюсь
Валериному
терпению – хладнокровному,
не имеющему
временных
границ. Я
вижу, как
Саша Коваль
переминается
с ноги на
ногу и
поглядывает
в сторону
седловины, и
понимаю, что
ему тоже вся
эта затея с флагами
кажется
нелепой и
неуклюжей... У
бывшего
военного
репортёра, у
человека, побывавшего
с
видеокамерой
в тех местах,
где лопается
тонкая
скорлупа
реальности,
выпуская в
мир
скользких
рептилий
безумия, где само
время
застывает от
ужаса, как
схваченная
морозом
волна, вся
эта манная
кашка не может
не вызывать
саркастического
недоумения…
На мой
взгляд -
взгляд
продвинутого
любителя, -
спуск с пика
Чапаева на
седловину
провешен
перилами
довольно
странно… Не слишком
крутой склон,
покрытый
снегом глубиной
по щиколотку,
то есть
такой, по
которому
можно
спускаться
без особых
проблем, добросовестно
провешен
верёвками, а
сама седловина,
представляющая
собой один
сплошной гигантский
карниз, в
нескольких
местах недвусмысленным
образом
проваленный
на северную
сторону,
оставлена на
волю случая,
при том, что
южная,
наветренная
сторона
карниза
довольно
крута: если
улетишь,
шансы
задержаться -
нулевые…
Но вот, что
характерно:
усталый, в
самом конце
длинного и
трудного
перехода,
траверсируя
крутой
карниз с
ледорубом «на
изготовку», я
впервые за
две недели
почувствовал
интерес и
вкус к своему
занятию… Впервые
это было
похоже на
альпинизм, а
не на
изнурительный
конвейер по
переработке мышечной
энергии в
километры
высоты... Обострились
чувства и
инстинкты,
проснулся азарт
и, по
контрасту с
этим азартом,
я понял, насколько
унылым и
бездарным
было всё предыдущее…
«Ты тут для
того, чтобы
снимать
фильм, и ещё -
для того,
чтобы
перевернуть
страницу и
начать с
чистого
листа, а
потому - жри и
помалкивай…» -
в сотый раз
напомнил я
себе…
«Пещерный
город»
встретил нас
хмуро: все
норы забиты
под завязку.
На седловине
скопилось
много народу,
и переходя от
пещеры к
пещере мы
везде
получаем от
ворот поворот.
«Тут,
наверняка,
должны быть
прошлогодние
пещеры, или
же новые,
которые
занесло
снегом, пока
народ был
внизу» -
убеждённо
предполагает
Саша Коваль,
и мы
разбредаемся
по склону,
чтобы
зондировать
снег лыжными
палками. Мы
зондируем
его над теми
местами, где
навалены
небольшие
комковатые
сугробы: след
проделанной
пещерокопателями
работы.
Нащупав
нечто
перспективное,
мы с Валерой
раскапываем
вход. Удар
лопатой – и
снег проваливается
внутрь,
открывая
узкий лаз. Валера
ныряет в
темноту и
спустя
минуту выползает
обратно,
припорошенный
снегом, как пончик
- сахарной
пудрой.
Отряхивается,
с сомнением
качает
головой. По
обыкновению
мягко, слегка
грассируя,
произносит:
- Не нравится
мне… Места
мало, низкая
она какая-то –
спину не
разогнёшь… Мы
там
замучаемся…
- Будем
дальше
искать?..
- Стоит
поискать.
Какое-то
время мы
продолжаем
зондировать снег
палками и
ледорубами,
но, в конце
концов,
возвращаемся
к откопанной
нами норе.
- Давай, я
поснимаю, как
ты будешь
раскапывать
вход –
предлагает
Валера.
- Давай… -
соглашаюсь я,
на этот раз
жалея, что не
выучился на
оператора…
Непривычная
высота
гирями
повисает на
руках, и
каждый раз,
когда я
разгибаю
спину, чтобы
откинуть
снег, в
глазах приплясывают
алые змейки…
Снежная
лопата весит
тонну, и
после двух
совков снега,
молодецким
замахом
отправленных
в отвал, я подолгу
восстанавливаю
дыхание.
Наконец,
Валера
насытился и
убрал камеру
в чехол.
- Давай я
помашу…
- Помаши…
Валера
машет, и я с восторженной
завистью
наблюдаю, как
легко он это
делает…
Пещера, в
которую мы
вселились,
более всего напоминала
погребальную
камеру
фараона, но
была не в
пример
холоднее и
предназначалась
капризным
живым людям.
То, что в ней
невозможно
было
выпрямиться
во весь рост -
полбеды, в
конце концов,
нам в ней не
танцульки
устраивать,
ужасно было
другое: на
снежных
нарах,
вырубленных
в её стенах,
невозможно
было сидеть,
не склонив
голову
вперёд или
набок. Это
особенно
мучительно,
когда ты
устал и
страдаешь от
недостатка
кислорода.
Процесс
питания и,
тем более,
питья
превращается
в этих
условиях в изощрённую
пытку.
Попробуйте
склонить голову
на плечо и
выпить
кружку
горячего чая,
и вы поймёте,
о чём я
говорю...
Кроме того,
сидя в такой
норе, ты
чувствуешь
себя погребённым
заживо, и
хотя никто из
нас не страдал
клаустрофобией,
всё это было
довольно утомительно
и
действовало
на психику
раздражающим
образом.
За ужином
обсудили
планы на
завтра, при
этом
выяснилось,
что на
вершину
рвусь я один:
Лёша плохо
себя
чувствует, а
Валера с
Сашей дают
понять, что
предпочли бы
заняться
съёмками на
седловине,
хотя не возражают
и против
попытки
восхождения.
В итоге, Лёша
высказывается
в пользу
нашего - моего
и обоих
операторов -
восхождения,
и мы тут же
начинаем
обсуждать
время утреннего
выхода.
Бурное
обсуждение
быстро заводит
нас в
очередной
тупик. Валера
с Сашей чувствуют
себя хорошо и
уверены в
своём темпе,
а потому они
хотят выйти
часов в
шесть-семь
утра, я же не
уверен
абсолютно ни
в чем, кроме
одного: я
буду
медленнее их
обоих, а
потому
настаиваю на
раннем
выходе -
желательно в
четыре, но
никак не
позже пяти.
- Ян, нам нет
смысла
выходить в
четыре: будет
холодно,
снимать в
темноте мы
всё равно не
сможем, да и,
вообще, -на
этих высотах
мы с Сашей не
в состоянии
тебя ждать -
это просто
тяжело
физически...
- Но вам ведь
всё равно
придётся
меня ждать, - иначе,
кого вы
будете
снимать на
подъёме?.. А на
вершине?
- Не знаю...
Будем
снимать тех,
с кем
пересечемся...
Не
обязательно
снимать
именно тебя...
- Это значит, я
должен буду
идти на
вершину
один?..
- Не знаю... А
как ты сам
это видишь?..
Мы несём аппаратуру,
мы должны
снимать... мы
всё равно не
сможем идти в
твоём темпе...
Мы
продолжаем
какое-то
время толочь
воду в ступе,
гася искры
раздражения
и взглядами апеллируя
к Лёше, но чем
он может нам
помочь?..
Мы молчим. С
оплывших за
время ужина
выступов
потолка, с
зарождающихся
ледяных
сталактитов,
капает вода,
капли стучат
по капюшону
куртки,
отдаются в
мозгу, мешают
сосредоточиться.
Шея затекла,
поскольку
уже целую вечность
я сижу, склонив
голову на
бок, как
удивлённая
дворняга...
Надо что-то
решать, но
голова -
чугунная, и
мыслительный
процесс
напоминает
скорее броуновское
движение, чем
поступательное...
Наконец, я
принимаю
решение,
право на
которое
никто не
может
оспорить:
- Если завтра
будет погода,
я выйду в
четыре, а вы -
когда захотите.
В семь, так в
семь. Если
всё пойдёт нормально,
где-то в
районе
вершины вы
меня догоните,
а если вы
меня
догоните
намного раньше,
то это
значит, что
мне там всё
равно нечего
делать, – я
поверну вниз.
Я хотел
спросить их,
смогут ли они
пойти вместе
со мной до
вершины и
вниз, если
догонят меня
в разумные
сроки, но
после
предыдущего
разговора не
повернулся
язык...
- Если мы
догоним тебя
в районе
вершины, мы подождём
тебя и пойдём
вниз вместе.
Я молча кивнул
головой.
В два
тридцать
прозудел
будильник, и
то зыбкое
нечто, в
котором я
пребывал, –
обрывки снов,
затекшая
рука,
соскальзывающий
под уклон
каремат, храп
соседей –
окончательно
кристаллизовалось
в леденящую
реальность, в
которой
дыхание
повисало в воздухе
серебряной
пылью, и в
которой мне
предстояло
быть сильным,
выносливым и
принимать
безошибочные
решения.
На
четвереньках,
зарываясь по
локти в рыхлый
снег,
выползаю из
пещеры.
Снежная пыль
стекает в
зазоры и
прорехи
одежды -
молча матерюсь,
стиснув зубы
и задерживая
дыхание.
Выпрямляюсь,
стою,
пошатываюсь,
смотрю на
звёзды…
Звёзды, звёздочки,
звездулечки…
- можно
выходить...
Соскользнув
обратно в
пещеру,
готовлю себе
овсянку,
строгаю в неё
брусок сыра,
крошу сухарь.
Кто-то
похрапывает,
кто-то ворочается,
кто-то
голосом,
похожим на
безнадёжно треснувшее
зеркало,
спрашивает у
меня погоду,
затем - время…
Заливаю
термос,
одеваюсь, ещё
раз проверяю собранный
с вечера
рюкзак и
выползаю во
мглу, в
которой нет
более звёзд,
и загуливает,
разминается,
низенький
ветерок -
гонит взашей
сонную
позёмку.
Погода
портится… Где
кошки – вчера
воткнул слева...
Унесло?..
Кошки не
может унести…
кошки не
может унести…
кошки не мо…
Справа! Ну да –
справа…
Чертовы
ремешки…
Снять
перчатку…
Чертовы ре…
Блядь -
соскочила!..
ещё раз… ещё
раз… Теперь
вторую…
На гребне
метёт
сильнее, но
тропа хорошо
видна, и не
слишком
холодно. Не
помню,
сколько времени
я шёл, –
возможно,
около часа, а
может быть
всего
полчаса, но
шлось через
силу: то ли
недостаточная
акклиматизация
сказывалась,
то ли «мотор»
ещё не
разогрет, то
ли и то, и
другое…
Когда я
добрался до
первых скал,
уже вовсю мело.
Присел,
прислонился
к скале.
Надо
подумать…
будем думать…
думаем…
Погода -
дрянь, -
это только
начало… Идти
можно – да,
пока можно,
но дальше
что... В каком
смысле
«дальше»?.. Стоп…
Думаем… В
ТАКУЮ погоду
ТАКИЕ как ты
не начинают…
История
повторяется…
Надо идти…
Иду ещё
пятьдесят
метров. Или
сто… Или
двести…
Нахожу
затишное
место у
очередных
скальных
выходов,
сажусь,
упираюсь
лучом фонарика
в снег меж
пластиковых
ботинок,
думаю… Вот
оно главное:
В ТАКУЮ
ПОГОДУ
РЕБЯТА НЕ
ВЫЙДУТ... Надо
поворачивать…
Гора
нависает
надо мной –
безликая,
чёрная, я
чувствую её
враждебное
присутствие,
вижу
стекающие во
мраке ручьи
холодного
порошка,
обрывки
верёвок,
шевелящиеся на
ветру, как
сухие патлы, -
ночная
мертвецкая… –
я не хочу
идти сквозь
всё это, для
чего мне это
нужно?..
Ребята
выйдут…
ребята
выйдут,
потому что вышел
я… Ещё хуже…
Надо
возвращаться…
Отрываюсь
от скалы,
бреду вниз по
гребню. Прохожу
пятьдесят
метров. Или
сто… Или
двести… Зло
выругавшись, выругав
себя,
поворачиваю
и
возвращаюсь
к скалам: под
скалой нет
ветра, а
минут через сорок
начнёт
светать… Сижу
полчаса. Или
двадцать
минут… Или
десять… Тупо
наблюдаю, как
на глазах
заметает мои
же
собственные
следы… Нет… к
черту…
хватить
дурить…
Встаю, бреду,
посыпаемый
колючими
иглами,
скатываюсь к
пещере,
спуская по
склону волны
сухого снега,
вваливаюсь…
Никто не
спит…
- Погода
дрянь…
- Правильно,
что вернулся.
Сегодня
никто не выйдет…
Сперва
допиваю чуть
тёплые опивки
из термоса,
затем
прихлёбываю
свежий горячий
чай…
«Правильно,
что
вернулся»…
Мы
спускаемся в
базовый
лагерь.
Ниже
первого
лагеря
встречаю
идущую вверх
колону из
десяти
корейцев.
Дежа вю…
От старого
серпантина
ничего не
осталось: всё
перекрыто
гигантской
лавиной,
которая
сошла за
время нашего
пребывания в
верхних
лагерях…
Думаю: «что
если?..» Нет… -
если бы
кого-то
накрыло, нам
передали бы
по связи…
Позже, сидя в
столовой мы просматривали
отснятый
Гошей
материал: по счастливой
случайности
ему удалось
заснять эту
лавину, в
которую, по
ещё более счастливой
случайности,
никто не
угодил, хотя
обычно на
этом склоне
всегда
кто-нибудь да
корячится…
Весь склон
дрогнул и
поехал,
раскалываясь
на огромные
многоугольники,
которые, в
свою очередь,
распадались
на многоугольники
помельче, а
те –
перемалывались
в пыль, и вся
эта
неимоверная
масса бесшумно
сползала,
соскальзывала,
как соскальзывает
на пол
толстое
пуховое
одеяло.
Лавина была
такой
огромной, что
склон горы показался
мне частью
макета,
моделью –
нашему мозгу
трудно
вообразить,
что обвал
может быть
столь
огромным…
Оказавшись
на морене,
поджидаю
Лёшу, который,
как обычно,
медлителен
на спусках.
Пошёл снег,
потом – град,
потом – дождь:
непрерывная
череда
трансформаций
и фазовых переходов.
Пока
пересекали
ледник,
промокли
насквозь.
Брёдем в
тумане, из
которого
ближе к
лагерю
вынырнули
две фигуры и
на румынском
диалекте
английского –
словно
галечка
речная
перекатывается
– спросили, не
видели ли мы
группу румын:
«три девушки
и парень… не
видели?..» Сюр…
Растворились
в тумане, как
привидения.
На подходе к
лагерю нас
встречает
Гоша с видеокамерой:
снимает наш
приход.
Стараюсь идти
ровно, не
спотыкаясь,
хотя,
возможно, Гоша
ищет именно
этого:
смертельной
усталости,
согнутых
спин,
потухших
глаз.
Плевать!.. Не
дождётся... Не
от меня... Я
БОЛЬШЕ НЕ
ИГРАЮ… С
капюшона
капает вода,
мокрые брюки
прилипают, холодят
колени.
Добредаем до
палаток,
роняем у
входа лыжные
палки и
мокрое
железо – всё, пришли…
В столовой я
сидел в
обнимку с
чайником, периодически
припадая к
нему
небритой,
давно не
знавшей
ласки щекой.
Я уже и попил,
и поел, но
дрожь никак
не унималась
– она
зарождалась
где-то под
ложечкой и
рябью мелких
судорог
пробегала по
всему телу.
Мокрым было
всё: вкладыши
пластиковых
ботинок,
брюки,
термобельё,
флисовая
куртка… Моя
пуховая одежда
осталась
зимовать во
втором
лагере, но
зима – вот она…
здесь и
сейчас… Я
глажу тёплые
бока чайника
и пытаюсь
шутить между
приступами
дрожи.
За наш стол
присаживается
сероглазая
стройная
девушка,
которая внимательно
и
сочувственно
смотрит на
меня, на мой
роман с
чайником, и я
нехотя
отстраняюсь
от своего
пузатого
друга… С
первого же взгляда
- по осанке, по
рукам, по
каким-то
неуловимым
особенностям
движений - я
признал в ней
скалолазку, и
так оно потом
и оказалось.
Неожиданно
мы начинаем
говорить – я
даже не помню,
кто из нас
произнёс
первую фразу,
– и я тут же
почувствовал
себя
спокойно и
комфортно,
словно мне на
лоб положили
мягкую успокаивающую
ладонь. Чего
бы мы ни
касались в нашей
беседе, во
всём я с удивлением
обнаруживал
родство и
схожесть со своей
собеседницей:
не
формальную
схожесть
интересов и
обстоятельств,
а именно – отношения,
градуса,
пропорции…
Это было не
знакомство, а
узнавание,
если вы
понимаете, о
чем я говорю.
Остро и
сладко
заныло
сердце: я уже
заранее
чувствовал
ностальгию
по чему-то
редкому и
значительному,
что могло бы произойти
в моей жизни,
но, конечно
же, никогда
не
произойдёт…
Собственно
говоря, УЖЕ не
произошло,
поскольку мы
разминулись
с ней во всём,
в чем только
могут
разминуться два
человека: в
пространстве
и, что куда
важнее, во
времени. Это
было, - как
опоздать на
последний
поезд, идущий
в нужном тебе
направлении,
но успеть, к
своему
несчастью,
заглянуть в
окно купе, в
котором
обещалось
тебе долгое,
счастливое и
уютное
путешествие...
- Вам
холодно?..
- Есть
немного… - с
коротким
смешком,
отодвигая
чайник и
выпрямляя
спину…
- Вы в
мокром?..
- Да, мы только
что
спустились. С
седловины… На
вершину?.. – нет,
не ходили,
это был
акклиматизационный
выход. Ну и
для съёмок…
Съёмки? Ну… мы
фильм
снимаем… о
Хане…
Документальный,
конечно. Вон
Гоша – наш
режиссёр…
Да-да, - тот, что
постоянно ко
всем
пристаёт со
своей камерой...
- Такой
шумный
молодой
парень в
тёмных очках?..
Я видела…
- Понятно, что
видели, – Гошу
трудно не
заметить…
- Вас колотит,
почему вы не
переоделись?
- Да-а… так… не
во что…
Пуховое всё
наверху осталось,
а здесь
только
нижнее. Что
мог – поменял,
но, по-моему, и
оно уже
отсырело…
- Хотите мою
пуховку?.. –
Девушка
посмотрела на
меня
тревожно и
участливо, и
столовая покачнулась,
подняла
якорь и
отчалила в
ночь – волшебную,
кружащую
бессонным
новогодним снегом…
- Я
похож на
человека,
который
снимет с девушки
пуховку?..
- Нет-нет – у
меня их две!..
Сейчас
принесу… - и
она выпорхнула
в морось и
слякоть -
именно они, а не новогодняя
пушистая
круговерть
царили на леднике,
- оставив
меня с
открытым
ртом, в котором
медленно
замерзали
слова
благодарности
и протеста…
"Какого
черта!.." –
сказал я
себе, мотнул
головой,
отгоняя
смутные
мысли, и
налил себе
ещё одну
чашку
бывшего кипятка
из чайника.
Пошарил по
столу, не
нашел сахара,
зажевал
конфетку…
Прокрутил в
памяти…
Внимание
девушки было
очевидным. В
последние
годы я
обнаружил,
что
пользуюсь
некоторой
известностью
в узких
кругах: меня
стали
узнавать в
базовых
лагерях
«постсоветского
пространства».
На меня
иногда
оглядывались,
и я не сразу
понимал
почему…
«Что-то
читала…» -
подумал я со
странной
досадой… -
«Оноре де
Бальзак,
блин!..»
Она
вернулась,
неся вторую
пуховку –
чистую и
светлую, как
её
собственные
льняные волосы.
- Спасибо вам
огромное!.. – я
смущённо и
неловко натянул
на себя
пуховку и
почувствовал,
как ровное
доброе тепло
обволакивает
тело и приливает
к щекам.
Она села
рядом,
положила на
стол руки, –
длинные
узкие
ладошки,
тонкие
сильные
пальцы.
- Как вас
зовут? Мы даже
не
познакомились…
- Меня зовут
Александра…
Саша.
- Меня – Ян. Вы
всегда щедро
раздаёте
пуховки нуждающимся?..
- Конечно!.. - у
неё приятный
смех…
Приятный
смех и
замечательное
имя: Саша Лукошкина!..
Или
Орешкина!..
Или
Пуховкина!..
Какая Вам,
любимый мой
читатель, в
конце концов,
разница – не
правда ли?.. У
неё звонкое,
дышащее
ягодной свежестью,
северное
«имя-фамилия»,
и это то, чем я хотел
с вами
поделиться!
Разве этого
не достаточно?..
- А вы,
случайно, не
публиковались
на сайте «маунтин-ру»?..
– спросила
Александра
Читашкина,
после долгой
смущенной
паузы. Мне
нравятся её
смущённые
паузы. Иногда
она говорит
чуть сбивчиво,
но всегда
грамотно и с
искренними
тёплыми
нотками.
Уравновешенная
натура, –
большой запас
душевной
прочности. Её
горизонты широки,
она из тех,
кто любит и
умеет расти,
воспринимать
новое, – её
наверняка
ждёт длинная
и интересная
дорога… Меня
что-то
спросили?.. Ах, да,
–
публиковался
ли я на
«маунтин-ру»!..
- Да, было
дело… А что вы
читали?
- Очерки про
Иорданию –
это ваше?..
Хорошие
очерки!
- Да, это мои
очерки... А ещё,
у меня есть
большой
рассказ про
Хан-Тенгри – я
уже был тут
четыре года
назад… Вы его
не читали?..
«Ты сошел с
ума!» - говорю я
себе,
поскольку
никогда ещё
не занимался
столь
дешевой
саморекламой,
не пускал в
ход это
пошлое и
такое
очевидное
оружие…
- Вы правда не
читали?! Я
обязательно
пошлю вам
ссылку! –
какой
кошмар…я
выгляжу
полным идиотом…
- а ещё, у меня
есть рассказ
про Альпы, и
про Боливию...
Вы бывали в
Альпах?..
И мы
продолжали
болтать, и
несмотря на
мой павлиний
хвост и
фонтан
мерзкого,
едва прикрытого
бахвальства,
большей
частью это было
лёгким
скольжением
по водной
глади общих
тем и
увлечений,
приятной
прогулкой по местам
и весям,
знакомым
обоим… О,
Господи, зачем
я родился так
рано!.. И не там!..
И не таким,
как надо бы!..
Столовая
начала
пустеть, и
взгляд Саши
Окошкиной
стал
затуманиваться,
она поглядывала
в сторону
выхода из
столовой,
который проглатывал
усталых
восходителей
одного за
другим. Скоро
отключат
генератор…
- По-моему, вам
пора… - я стал
стягивать с
себя пуховку,
но
Веснушкина
смешно
наморщила
носик и
протестующе
замахала на
меня…
- Оставьте её
себе!..
Я застыл с
немым
вопросом в
глазах…
- Завтра рано
утром я ухожу
в первый
лагерь, а
вечером
вернусь, ну и
у меня же
есть та пуховка,
что на мне…
- Да, но если
мы
разминемся,
как я её вам
верну?..
- Оставите её
Вере. Правда –
берите, она
мне пока не
нужна…
- Спасибо,
Саша…
Спасибо
тебе,
Александра
Хорошкина…
Спасибо тебе,
Девушка
Раздающая
Пуховки!
Я
пробирался к
своей
палатке: мои
ноги скользили
по мёртвому
чёрному
ледниковому
шлаку, я путался
в растяжках
палаток,
спотыкался о валуны,
а на лицо мне
плакал
холодными
слезами
моросящий,
налету
замерзающий
дождь, но
тело моё было
укутано в
облако
мягкого заботливого
тепла… Перед
палаткой я
остановился,
словил
языком
несколько
чахлых,
умирающих
снежинок…
Наверное, я
улыбался…
Вошел в
палатку и
тщательно
застегнул
вход. С
одежды
стекли
тонкие
ручейки воды
и мокрого
снега и
исчезли меж
грязными
досками настила.
Снял
пластиковые
ботинки,
возмущённо
пахнувшие на
меня кислым
жаром и
стянул с себя
верхнюю
одежду,
пожалев, что
не умею
отряхиваться,
как собака. В
палатке
ворочался
Лёша: он
разминал
мышцы ног и
шмыгал
простуженным
носом. Я
завалился на
свой
спальник по
диагонали и
издал долгий
мечтательный
вздох…
- Ты чего?.. –
спросил Лёша,
продолжая
усердно растирать
натруженные
икры.
- Да так… Почки
проклюнулись…
- ответил я,
продолжая
загадочно
улыбаться в
потолок, а
Лёша
посмотрел на
меня
недоуменно,
видимо не понимая
о каких
«почках» идёт
речь, и
беспокоясь,
всё ли в
порядке у
меня с
почками…
"Человек
и Стихия…"
Кислород –
лучшее
снотворное
для утомлённого
высокогорьем
организма.
Мне снилась боль
в треснувших
пальцах, и
снилось, что
горят и
опухают губы,
но ни то, ни
другое не
разбудило
меня…
Пасмурное, серое,
спокойное
утро –
по-своему
уютное, после
жесткого
мира верхних
лагерей.
Тщательно, со
вкусом
бреюсь,
умываюсь.
Чуть морщась,
бинтую
потрескавшиеся
пальцы, от
которых на
внутренней
стороне
спальника,
там, где я подкладывал
под щеку
ладонь,
остались бурые
пятна. С
досадой
изучаю в
зеркале
первые
водянистые
пузырьки на
нижней губе:
где-то там, на
горе, в
неплотном
тумане я не
позаботился
вовремя
смазать лицо
кремом от солнца,
и вот –
результат на
лице…
Смазываю
губы мазью
«Зовиракс»,
прекрасно
понимая, что
на этом этапе
ничто уже не
поможет…
На
ледниковом
холме, чуть
выше наших
палаток,
возвышается
большой
естественный
монумент –
огромная
гранитная
глыба,
поставленная
на попа
неторопливыми
природными
силами:
движением
ледника,
многократным
таянием и замерзанием,
ветрами и
течением
ручьёв. Спустившись
в лагерь на
отдых, мы
обнаружили,
что монумент
за время
нашего
отсутствия
опасно
накренился в
сторону
палаток, и
вся его опора
в данный
момент -
столбик
твёрдого натёчного
льда,
сбереженный
от
неминуемого
таяния тенью
самой же
глыбы.
Первым
поднял
тревогу
Валера Багов
- человек
строгого
порядка, не
оставляющий
ничего на
волю случая,
зорким
глазом
обнаруживающий
мельчайшие
неполадки в
механизме мироздания
и умелой,
трудолюбивой
рукой тут же
их
устраняющий.
Случай, этот
легкомысленный
лопоухий пёс,
щедро
раскормленный
на просторах
Валериной родины,
от самого
Валеры не
получает и
обглоданной
кости…
К нам Валера
пришел с уже
готовым
инженерным
планом:
эвакуировать
всё живое и
ценное из
нижестоящих
палаток, а
затем
попытаться
завалить
глыбу в
сторону её естественного
крена.
- А если она
докатится до
палаток?..
- Сомнёт
пустую
палатку… А
если она
упадёт ночью
сама и
докатится до
палаток?.. –
вопросом на
вопрос
отвечает
Валера.
Осмотрев
глыбу и её
подножие, мы
с Сашей с
сомнением
качаем
головами, а
Лёша - человек
не
созерцания,
но действия -
легко принимает
Валерину
идею, и уже
вдвоём они
отправляются
добывать
верёвку и
дармовую
рабочую силу.
Спустя
каких-нибудь
полчаса,
ледник у наших
палаток
кипит, как
муравейник, в
который
воткнули
прут: народ
опутывает глыбу
верёвками,
впрягается,
приноравливается.
Воплощается
в реальность
Гошин кинематографический
образ:
Вавилонская
Башня:
разноязыкий
гомон,
смешение
языков и сплошная,
кромешная
неразбериха.
В отличие от древних,
перед
сегодняшними
народами
поставлена задача
упрощённая:
не строить,
но ломать, и засидевшиеся
без живого
дела
восходители
обмениваются
возбуждёнными
возгласами,
радостно
посмеиваются,
поплёвывают
на руки,
оценивающе
пошлёпывают
и поглаживают
шершавую кожу
гранитного
монстра.
Засучили
рукава, заарканили,
потянули,
скользя по
каменной крошке
и разноязыко
матерясь...
Хмурые
небеса,
понаблюдав
за
происходящей
в наземном
мире
богопротивной
суетой, в сердцах
сплюнули
мокрым
снежком и
окончательно
отвернулись.
Глыба не
поддаётся...
Я подумал о
древних и об
их
безвозвратно
утерянных
секретах,
позволявших
играючи управляться
с
мегалитическими
блоками, как с
кубиками
детского
конструктора.
Кроме обычного
уважения
кабинетного
интеллигента
к
обладателям
умелых мозолистых
рук, я
испытываю к
ним и
почтение совсем
иного рода.
Меня всегда
поражала
приверженность
этих
закутанных в
шкуры, вечно озабоченных
пропитанием
северных
людей астрономии
и
космологии...
Казалось бы,
"что им
Гертруда"?..
Вместо того
чтобы
кратким северным
летом
запасать на
зиму мох да
шишки, да
строить
надёжные,
устойчивые к
ветрам каменные
жилища с
двойными
окнами из
мочевого
пузыря
мускусного
быка, они
тратили последние
силы, возводя
из
гигантских,
невообразимого
веса глыб
астрономические
обсерватории,
рассчитанные
на программу
исследований
длиною в
десятки
тысяч лет!..
Нам, обладающим
неисчислимыми
материальными
и людскими
ресурсами, но
неизменно
урезающим свои
космические
программы,
стоит
оглянуться
назад на
наших
предков -
мечтательных
троглодитов,
косматых
романтиков с
глазами,
устремлёнными
в небо...
Отчаявшись
завалить
глыбу
простым
умножением
физической
силы,
исчерпав
человеческий
ресурс
базового
лагеря,
Валера подошёл
к проблеме с
другой
стороны.
Принеся от палаток
два ледоруба
и добыв себе
в помощь
румынского
добровольца
он стал
подрубать
ледовый
столбик, на
который опиралась
глыба. Мне
эта затея
показалась опасной
для самих
работников,
но к моему
голосу никто
не
прислушался.
Циклы
подрубаний и
бурлацких
усилий
следовали
один за другим,
но глыба и не
думала
снисходить
со своего пьедестала...
Надо всем
этим
действом
большим
взъерошенным
буревестником
носился Гоша
Молодцов.
Подлетел ко
мне,
загадочно
подмигнул,
заговорщицки
шепнул на
ухо: «Человек
против стихии!..»
и умчался за
видеокамерой.
Окончательно
разуверившись
во всей этой затее,
я махнул
рукой и
отправился
писать записки
в опустевшую,
покинутую
даже её собственным
персоналом
столовую,
оправдывая
себя той
самой
"ответственностью
художника за
своё
произведение",
которая не
позволяла
нашему
режиссёру
подниматься
выше базового
лагеря...
Столовая
пуста: в
«борьбе со
стихией»
участвуют,
кажется, все
обитатели
лагеря, кроме
меня и Саши
Коваля. Я не
участвую в
свале монумента
по причине
лени и
глубокого
неверия в
конечный
результат:
затея
кажется мне
опасной, как
для палаток,
так и для
участников, а
Саша - по
идеологическим
причинам.
«Нельзя
ничего
менять в
природе…» - говорит
он,
укоризненно
покачивая
головой. И
это
произносит
человек,
затащивший
«Лендровер»
на вершину
Эльбруса!..
О, этот Сашин
«Лендровер»! -
квинтэссенция
человеческого
безумия,
кристально
чистый в
своей бессмысленности
проект, в
сравнении с
которым даже
египетские
пирамиды
кажутся мне
плодом
рационального
мышления и
экономной
траты
ресурсов...
Полтора
месяца
безумного напряжения
всех
человеческих
и нечеловеческих
сил целой
команды,
состоявшей
из очень
неглупых и
невероятно
волевых
людей, ушло
на то, чтобы
буквально на
руках
занести на
вершину
Эльбруса
нелепый
конгломерат
из замороженного
железа,
заиндевевшего
стекла и вонючей
ребристой
резины...
Когда
железный конь
переставал
перебирать
копытами,
утопая в
снегах,
проскальзывая
на льду и
задыхаясь от
недостатка
кислорода,
его
вытягивали с
помощью
лебёдки: метр
за метром,
дюйм за дюймом...
Не
спрашивайте
меня для чего
это хорошо, и
в чем смысл
подобного
мероприятия: я
не знаю и, по
правде
говоря, не
желаю знать, и
даже если
кто-то
попробует
разъяснить
мне этот
смысл, я буду
отворачиваться
и затыкать
уши, потому
что не желаю
присутствовать
при
посрамлении
совершенства,
- ибо бессмысленность
этого
мероприятия
совершенна!..
Я терпеть не
могу
технические
виды спорта, вторгающиеся
в среду,
которую я
привык считать
своей. Меня
бесят все эти
широкомордые
джипы, как
навозные
жуки катящие
самих себя по
последним не
загаженным
песчаным
пляжам и
оставляющие
за собой
долго не заживающую
колею, я
ненавижу
квадрациклы:
истеричные
приземистые
чудовища, на
которых
гоняют по
моей пустыне
взъерошенные
технокретины
-
вскормленные
бензиновой
грудью,
дышащие
выхлопными
газами, с
ушами, обутыми
в наушники
плеера, чтобы
не дай бог не
услышать
тишину.
Трудно
ожидать, что
идея затащить
на красивую
снежную гору
вонючее
железное
чудовище
найдёт
отклик в моей
душе, и, тем не
менее, я
признаю за
этим
проектом
некое
совершенство:
совершенство
гротеска, и ещё,
- в нём
присутствует
что-то от
жертвоприношений,
практиковавшихся
доколумбовыми
жадными до
крови
цивилизациями,
когда босоногую
жертву
затаскивали
на вознесшийся
средь снегов
и льдов
алтарь, чтобы
аккуратным
обсидиановым
ножичком
вырезать из её
тоскующей
груди
усталое
сердце... И
надо
заметить, что
грузный
тугодум
Эльбрус
принял
жертву с
неожиданным
для него
черным
юмором и с благосклонной
иронией: на
спуске с
вершины "Лендровер"
дёрнулся из
ослабевших
рук своих
мучителей,
заскользил
вниз, обрывая
тросы и
канаты и
выплёвывая
на ходу
зазевавшегося
водителя,
пропахал в
упоительном
предчувствии
свободы
осенние
ледяные
торосы и застыл
навеки,
лишенный
своего
большого металлического
сердца...
Со стороны
палаток
донёсся
короткий
грохот,
шелест
подминаемого
щебня и
ликующий
вопль
человеческого
разума, в
очередной
раз
посрамившего
косную стихию...
Перед
ужином мы
сходили в
баню -
небольшое примитивное
сооружение,
состоящее из
трёх секций:
центрального
предбанника,
левой секции,
где
находится
парилка, и
правой -
собственно
бани, где в
огромных
чанах хранится
вода с
ледника, и
где
происходит
сам процесс
"помойки".
Первыми
вымылись
операторы, а
за ними потянулся
административный
и актёрский
состав: Лёша,
Гоша и я. Для
трёх человек
места в бане
маловато,
поэтому нам
приходится
мыться по
очереди.
Деловито
насвистывая
себе под нос,
Гоша повесил
на гвоздь
любимый
плеер, нашел
нужный трек,
нажал на
кнопочку и
под песню "Я
не сдамся без
боя!.." нырнул
в клубы пара...
Мы с Лёшей
переглянулись
и иронически
осклабились...
Пятый
выход
Я сижу у
входа в
палатку и
наблюдаю, как
мелкий серый
дождь
штрихует
горы - эту
грандиозную
графическую
работу
Господа
Бога... Мне смертельно
не хочется
выходить на
гору, - одна
мысль об этом
наполняет
меня
отчаянием. Я
не помню,
чтобы мне
когда бы то
ни было
НАСТОЛЬКО не
хотелось покидать
базовый
лагерь...
Погоды нет, и
неизвестно
будет ли, а я
чувствую
себя больным:
губы
разнесло,
лицо горит,
под нижней
челюстью
вспухли
лимфоузлы, - я
нащупал два
маленьких
твёрдых
горошка,
перекатывающихся
в оболочке
тянущей боли.
Похоже, у
меня температура,
но причина её
мне ясна, да и
отступать
всё равно
некуда: это
наш
последний шанс
взойти на
гору. Это МОЙ
последний
шанс взойти
на гору, и
хоть я и
убеждал себя
всё это
время, что
мне не
слишком
важна вершина,
я не могу
просто так
взять и
повернуться
к ней спиной.
В десятый
раз достаю
маленькое
бритвенное
зеркальце и
изучаю "зону
поражения"...
Такого со
мной не
случалось
уже много
лет: с тех пор,
как
появились
эффективные
крема от солнца
и мазь
"Зовиракс". С
грустной
иронией
рассматриваю
свою траченную
герпесом
физиономию:
губы, как у Анжелины
Джоли… Её эти
губы сделали
популярной
актрисой, но
мне, я думаю,
придётся
рассчитывать
только на
свой
драматический
талант…
Ближе к
вечеру,
дождавшись
небольшого окна
в погоде, мы с
Лешей
выходим, и
единственное
утешение,
которое я
нахожу для
себя в этом
бесславном
мире, это
факт, что
выход этот -
последний...
Вскоре,
погодное
окно
закрылось, и
порывистый
нервный
дождик
забарабанил
по капюшону
ледяными
пальчиками. Тропы
на нижнем
склоне
поплыли, как
смытая слезой
косметика, и
мы петляем,
отыскивая полустёртые
следы и
прокладывая
новые серпантины.
Я впал в
прострацию, -
отключил
мозг и
погрузился в
счёт шагов,
который
обнуляю на
каждом
очередном
повороте,
поскольку результат
не имеет
значения...
скорее бы всё
кончилось…
Стараюсь ни о
чем не
думать: ни о тяжёлых
пластах
мокрого
снега,
застывших на
старте выше
по склону
(надо бы
побыстрее, но
нет сил и на
медленно…), ни
о слабости в
ногах и
пульсирующей
боли в губах
и под
подбородком
(то ли ещё
будет
завтра…), ни об этом
самом
«завтра»… о нём –
в
особенности…
Готовим
ужин в сырой
палатке. Лёша
почти ничего
не ест и
жалуется на
проблемы с
желудком, -
только этого
нам не
хватало...
Заползаю в спальник,
сворачиваюсь
калачиком,
прикладываю
прохладную
материю к
пылающей
губе,
отключаюсь…
Тормошат,
тревожно
шепчут,
возвращают в
этот
бессонный,
беспощадный…
- Ян!..
Я-ан… Извини,
что бужу…
Фонарик
можешь дать?
- Что
случилось?..
- Желудок…
Нащупываю
фонарь, Лёша
осторожно
переползает
через мою
голову к
выходу…
Только
задремал –
переползает
обратно…
- Ну, как ты?..
- Понос, блин…
Только этого
не хватало…
-
Может
пройдёт до
утра…
- Угу…
Сворачиваюсь
калачиком,
прикладываю
прохладную
материю к
горящей губе,
отключаюсь…
Тормошат, тревожно
шепчут…
Мучительно
всплываю,
нехотя
выглядываю в
щёлочки глаз…
- Извини…
Фонарик
можешь дать
ещё раз?..
- Снова?.. А
твой где?..
- Где-то в
рюкзаке… В
тамбуре…
- Держи…
Забери его к
себе, ради
бога…
Сворачиваюсь
калачиком,
прикладываю
прохладную
материю к
горящей губе,
отключаюсь…
Ещё два раза
через меня
переползают
в течение
этой ночи… И
два раза –
обратно… Но
хоть фонарик
больше не
просят…
Наступило
утро. Это
было мерзкое
больное утро,
я хорошо его
запомнил, и я
очень надеюсь,
что в моей
жизни больше
не будет
таких утр.
Мы с Лёшей
собрались с
силами и
вышли, и даже
успели
отойти
метров на
десять в
сторону перильных
верёвок, как
вдруг лицо
его приняло
озабоченное
выражение, и
он остановился.
- Снова?.. -
Он
удрученно
кивнул
головой:
- Не жди, я выйду
чуть позже.
Мучение
вверх по
гребню было
продвижительным...
или
наоборот...
Мысли
путались,
бегали по
кольцу,
рвались, где
тонко, - я
ничего не соображал,
только знал,
что мне
совсем плохо,
и что так я
никуда не
заползу... ни в
какой второй
лагерь, я имею
в виду... В
тоске и
отчаянии я
скользил взглядом
вдоль этого
бесконечного
гребня, в котором
сострадания
к моим
проблемам
было не
больше, чем в
нижней
челюсти
акулы... Пережуёт
и выплюнет. Я
не чувствую в
себе сил продолжать.
Проклятый
вирус лишил
меня сил,
сделал мои
ноги ватными,
выпил из меня
остаток
энергии. Эта
тварь
размножается
за мой счёт, -
за счёт моего
восхождения...
Я смотрю
на изрытые
оспой склоны,
на оголённый
камень и
замордованный
ветрами снег,
на сопли
льда,
свисающие с
грубых
гранитных
подбородков,
на
подслеповатые
облака, наощупь
переваливающие
через горный
хребет - вся
эта
черно-белая
кинолента
сдана Богом в
архив
миллионы лет
назад... Что я
забыл тут?
Что за
странное
безумие -
прийти в это
царство
смерти, где
каждый
камень -
отрицание
тепла, жизни,
любви... В этом
нет НИЧЕГО:
посмертный
портрет
ледника в
траурной
раме скал, да
завывания
вечно
голодного
ветра. Задворки
мира, куда
Бог сгрёб в
гигантские
кучи весь тот
хлам, который
остался от
Сотворения...
Здесь не
происходит
даже гниения,
- последнего
из
свидетельств
жизни...
Но, когда
я смотрю вниз
на лагерь, я
понимаю, что
не могу
повернуть
назад: я не
могу стать
первым
повернувшим...
И дело,
конечно же,
не в вершине, -
в гробу я
видел в тот
момент все вершины
мира!.. - дело в
самолюбии, в
одном только
самолюбии... В
конце концов,
плохо тут
всем, так
почему же
именно я стану
первым, кто
повернул
назад?..
Стиснув зубы
и смирившись
с
неизбежностью
многочасовой
пытки, я
продолжаю
ползти вверх.
Пусть это
займёт целый
день - я всё
равно выползу
во второй
лагерь. А там -
придёт новый день,
в котором,
кто знает,
возможно, всё
окажется
иначе.
Чудо
произошло
выше
"снежного
корыта", как я
окрестил
одинокий
раскоп под
палатку в том
месте, где
гребень
выполаживается
и образует
широкое
снежное плечо.
Эту точку
отделяет от
второго
лагеря последний
крутой взлёт,
и это
единственное
место на всём
более чем
километровом
гребне, где
можно
по-человечески
с комфортом
посидеть и
расслабиться.
Отдохнув в
этом "корыте"
около часа и
попив чая, я
вышел в направлении
"верблюда" -
характерного
двугорбого
холма,
отороченного
скальными
выходами, - и
тут же
почувствовал,
как что-то во
мне изменилось:
исчезла
слабость, и
вырос темп продвижения.
Я испытал
злую радость,
- почти мстительное
чувство...
Безадресное,
в общем-то,
если не
считать
вирус
герпеса
адресом для
мстительных
чувств...
Похоже, эта
тварь сдохла,
сломалась, не
вынесла
напряжения, -
была
перемолота
работающим
на износ организмом
и сожжена в
его
воспалённой
топке...
В районе
«верблюда»
меня нагнали
Валера с
Сашей,
которые
поднимались
прямиком из базового
лагеря во
второй. Они
сказали мне, что
Лёша остался
в первом
лагере и до
завтрашнего
утра должен
решить,
подниматься
ли ему к нам
во второй,
или
прекратить
восхождение
и спуститься
в базовый.
Я подумал о
том, что если
бы тогда,
стоя у
подножия
этого гребня
и собирая
остатки сил
для продолжения
пути, я узнал,
что Лёша
остался в
лагере,
возможно, у
меня и не
хватило бы
воли продолжить...
Но, как бы там
ни было, я уже
тут: пью чай в
полубочке у
ребят, к которым
подселился,
чтобы не
прозябать в
одиночестве,
и я рад, что не
повернул
назад, поскольку
всегда
приходит тот
новый день, в
котором нет
ни герпеса,
ни боли, ни
смертельной
слабости во
всём теле, и
вот тогда ты
и остаёшься
один на один
со своим
решением...
Вечером, нам
было
знамение в
виде сияния.
Там, где
должно было
угасать
заходящее
солнце, повис
плотный
купол
ровного
мертвенно-белого
света. Купол
был огромным,
- он скрывал
под собой
большую
часть долины
и походил скорее
на
предвестье
Армагеддона,
чем на
конвенциональный
закат. Это
атмосферное
явление не
сулило нам
ничего
хорошего, с
какой
стороны ни
посмотри, -
что с рациональной,
что с
мистической.
Вчера
вечером мы
решили, что
пойдём на
перемычку в
любую погоду,
и вот она тут,
эта "любая
погода", и мы
в неё идём...
Пик Чапаева
едва
проглядывает
сквозь победные
стяги пурги,
плывёт
ледоколом в
полярном
море. Выше
скального
пояса
верёвки припорошены
снегом,
покрыты
ледяной
коркой и
проскальзывают
в жумаре - шаг
вперёд, два назад...
Каждые пять
минут я
отогреваю
жумар своим
дыханием,
чтобы освободить
ото льда
зубчики его
нехитрого механизма,
но через
несколько
метров подъёма
всё
повторяется.
Под ноги
стекают
ручьи сухого
снега, ветер
толкает в
грудь нервной
ладонью и
отвешивает
пощёчины.
Над
предвершинным
гребнем
повисла в
тумане
огромная матовая
лампа солнца,
к которой
чёрным бескрылым
мотылём
ползёт
человек, -
дополз и исчез,
проглоченный
холодным
сиянием,
словно и не
был...
Не найдя
свободной
пещеры,
утомлённые
метелью и
тяжелым
переходом, мы
подселились
к чете
молодых
литовцев. Их
звали Паулюс
и Довилия,
если память
мне не
изменяет с
Альцгеймером...
Приятные
домашние
ребята, - из
тех, с
которыми
комфортно
делить даже самое
непрезентабельное
жилище.
Вдоль всей
пещеры
тянулась
одна длинная
лежанка, на
которой
могло
разместиться
не более четырёх
человек, а
пятому, -
которым по
глупой нерасторопности
оказался
именно я… -
оставался
лишь покатый
уступ у входа
в нишу, предназначенную
для
продуктов и
снаряжения.
Кроме того,
что это место
было
неудобным для
лежания, меня
ожидала
незавидная
судьба
крайнего:
выполнять
мелкие
поручения залегших
в глубине
пещеры и
заниматься
топкой снега,
бесконечной,
как
антарктическая
ночь... К
моменту,
когда были
натоплены
необходимые
нам для ужина
литры воды,
глаза мои слипались,
я кренился к
лежанке
дырявой
фелюгой в
шторм, был
раздражен и
неуживчив. Я
мечтал
крепко
уснуть и
обнаружить
утром хорошую
или хотя бы
сносную
погоду,
вложить всё,
что во мне
ещё
оставалось в
последнее
усилие и
взойти на
вершину, и
спуститься
вниз, и...
спуститься
вниз. Этого
будет
достаточно...
Когда
первая часть
программы, - я
имею в виду:
"крепко
уснуть" - была
близка к
исполнению, и
я стал
обустраивать
отведенный
мне для ночлега
ледовый
склон, Валера
предложил мне
– нет, вы
только
подумайте!.. -
подшить
флажочки к
верёвочке...
Он, видите ли,
переговорил
только что с
"высоким
кинематографическим
начальством",
и оно поставило
перед нами
задачу
подшить
флажки к верёвочке...
- Н-н-е понял?..
Мы же их уже
подшивали... - я
чувствую, как
"ярость
благородная"
вскипает во
мне девятым
валом...
- Лёша часть
из них раздал
потом. Люди
на вершину
собирались и
попросили
свои флажки обратно,
а сейчас Лёша
просит их
снова пришить,
чтобы
отснять на
вершине, если
взойдём.
- Валера,
сейчас уже
поздно, я
только что закончил
возиться с
ужином, и нам
вставать ночью
на
восхождение...
Я не буду
заниматься этой
хернёй... - я изо
всех сил
стараюсь
говорить
спокойно, но
голос мой
дрожит и
проваливается
– срывается
от
сдавленной
ярости. Эти
флаги
действуют на
меня, как
красная
тряпка на
быка, причём
флаги любого
цвета, не
только
красные...
- Ян, ребятам
это нужно для
фильма, Гоша
поставил
четкое
задание:
снять флаги
на вершине... Я
тут для того,
чтобы делать
то, что мне
говорят
режиссёр и
продюсер.
- ТЫ, КАК
ХОЧЕШЬ, а я
иду спать… - Я
продолжаю
нервные
попытки
закрепить
юркий
каремат на
крутом
снежно-ледовом
склоне,
демонстрируя
тем самым
неумолимость
своих
намерений...
Этим своим
"ТЫ, КАК ХОЧЕШЬ"
я деликатно
намекаю
Валере, что
если он
хочет, он
может
подшивать
эти тряпочки самостоятельно
хоть ночь
напролёт...
Поняв мой
намёк, Валера
- и сам -
человек
деликатный, -
намекает мне,
что не
операторское
это дело
заниматься
актёрским
реквизитом -
у них хватает
своих забот и
обязанностей...
Мол, что ещё?
Может тебя
ещё
загримировать
да
помассажировать...
Мы
продолжаем с
ним интеллигентно
препираться -
в высшей
степени
деликатно... - а
пара
литовцев
наблюдает за
нами со всё
возрастающей
тревогой,
ожидая,
видимо, что
мы вот-вот
перейдём на
мат, того не
ведая, что я
никогда не
ругаюсь матом
при женщинах,
а Валера и
вовсе не
знает грубых
слов: он даже
жопу
называет
"плохой погодой"...
- Давайте я
пришью
флаги... –
доносится из
литовского
угла пещеры,
и мы с
Валерой
надолго замолкаем.
Я - потому что
чувствую
себя неловко:
своим
саботажем я,
вроде как,
вынуждаю
постороннего
человека
проделать
сугубо нашу
работу, а
Валера - потому
что понял это
и ждёт
развития
событий... Мяч -
на моём поле...
- Спасибо,
Довилия, -
говорю я - но
это,
вообще-то,
наша работа...
Я не хочу её
ни на кого
сваливать.
Если мы решим
её сделать,
мы сделаем, а
если нет - она
останется не
сделанной...
- Да нет, для
меня это не
работа, а
развлечение.
Мы сидим тут
уже второй
день...
Давайте я пришью!..
Я
неопределённо
пожимаю
плечами, а
Валера передаёт
Довилии
полиэтиленовый
пакет с
флагами.
Я чувствую
себя
премерзко:
мой каремат
продолжает
сползать по
склону, а в
углу пещеры гибридом
Золушки со
Снегурочкой
сидит Довилия
и выполняет
предназначенную
мне работу...
Первая
половина
ночи стала
для меня
сущим кошмаром:
стоило мне на
секунду
задремать,
как я начинал
соскальзывать
вниз вместе
со своим
карематом. Я просыпался,
пытался
затащить нас
обоих повыше,
не вставая,
хотя
прекрасно
сознавал, что
такие трюки
удавались
только
барону Мюнхгаузену.
Отчаявшись, я
откатывался
вместе со
спальником в
сторону,
подтягивал
каремат
повыше,
изгибаясь,
как гусеница,
заползал
вверх по
склону и
затем
перекатывался
обратно на
каремат, но
стоило мне
отключиться -
всё в
точности
повторялось.
Мерный храп и
младенческое
посапывание
моих друзей доводили
меня до
белого
каления…
Проснувшись
в очередной
раз и едва
успев "зарубиться"
голыми
пальцами на
самом краю
ледяного
алькова, я
понял, что
пришло время
похерить
интеллигентские
комплексы…
Расталкивая
обоих
операторов, я
объяснял им,
что если они
хотят иметь
«хэппи энд»
своему
фильму, им
придётся
потесниться
и дать место
главному и на
данный
момент
единственному
герою, но
слушали они
меня, по
правде
говоря,
невнимательно:
Саша не
прервал
мерного
храпа, а
Валера попытался
мне
оппонировать
с
непосредственностью
не совсем
проснувшегося
человека: возмущённо
помычал,
пробормотал
что-то, отрицая,
не открывая
глаз
сослался на
Александра:
мол «мне коза
сейчас
сказала…»
Затем, он попробовал
перевернуться
на другой
бок, но я уже
был тут:
ввинтился
между ним и
стенкой
пещеры,
подвинул,
перекатил,
захватил стратегические
плацдармы…
Наступивший
день принёс
нам вместо
восхождения
лютый холод,
от которого
стынет хрусталик
глаза, мелкую
сечку снега и
долгие часы
отсидки в
ледяном
пузыре,
плывущем сквозь
мглу и
вибрирующие
воздушные
потоки. Ближе
к полудню,
когда
немного
потеплело, и
с седловины
потянулись
первые
цепочки
беженцев, мы
сумели убедить
литовцев, что
им пора
уходить из
этого гиблого
места.
Спустившись
с вершины,
они застряли
на седловине
из-за
непогоды и
вот уже двое
суток
безвылазно
сидели в
пещере. Поколебавшись,
они собирают
рюкзаки и уходят.
С
неизбежностью
возникает
вопрос, «что
делать, если…»:
что делать,
если погоды
не будет и завтра,
что делать,
если её не
будет и послезавтра…
Тут-то и
проявилась
разница
между моим
положением и
положением
обоих
операторов.
Я - человек,
который во
второй раз
приехал к подножию
Хан-Тенгри, в
третий раз
добрался до
его
седловины и,
несомненно,
имеющий последний
шанс в жизни
взойти на его
вершину. Я не
получаю
зарплату за всё
то, что я тут
проделываю:
за все эти
километры
отжумаренных
верёвок,
бесконечные хождения
вверх-вниз в
любую, чаще
всего отвратительную
погоду… Да, -
эта
экспедиция
действительно
свалилась на
меня
негаданным подарком,
но
восхождение
на вершину
было существенной
частью того,
что могло
оправдать
моё
нахождение в
этом не
слишком
гостеприимном
месте,
потраченный
годовой
отпуск и
немалые
физические и
моральные
усилия.
Валера же с
Сашей
побывали на
вершине Хана не
один раз. Они
прибыли сюда
в рамках
строго оговоренного
контракта, и
вершина
являлась для
них не
столько
желанной
целью, сколько
унылой
рабочей
необходимостью,
а если такая
необходимость
в рамках
проекта
отпадала, они
готовы были с
лёгкостью от
неё отказаться.
Я прекрасно
всё это
понимаю и
уверен, что в
аналогичной
ситуации
повел бы себя
так же, как
они, но в тот
момент мне
трудно было это
принять и
трудно было с
этим
смириться, поскольку
я от них
зависел, но
не имел на них
никаких
рычагов
влияния,
кроме
собственного
красноречия….
Они не
собирались долго
оставаться
на седловине
и, тем более, не
собирались
идти на
вершину по
сомнительной
погоде - «если
до завтра
погода не
улучшится, мы
идём вниз»
говорили они,
- а я не мог себе
представить,
что во второй
раз вернусь из-под
Хан-Тенгри с
пустыми
руками.
Вопреки
всему тому,
что я говорил
себе и другим,
эта мысль
стала для
меня
невыносима. Когда
я
почувствовал,
что
действительно
теряю эту
вершину, я
вцепился в
неё с
отчаянием
утопающего.
Думаю, где-то
глубоко в
подсознании
я был убеждён
в том, что на
этот раз
вершина у
меня в
кармане… Не
знаю почему…
Ну просто
потому, что я
здоров,
прекрасно акклиматизирован,
мотивирован
и снаряжен всем
необходимым.
А главное – не
может быть, чтобы
мне
настолько
катастрофически
не повезло.
Эта непогода
длится уже
несколько дней
подряд – не
может быть,
чтобы во всей
этой
круговерти
так и не
открылось ни
одного окна.
В конце
концов, это
просто
нечестно…
Я думаю, в
детстве меня
разбаловали
мои родители:
все
наказания,
казавшиеся
сперва неотвратимыми,
всегда
отменялись в
последний
решающий
момент, и что
бы я там не
натворил, в
итоге, я всё
равно
получал свою
конфету,
отправлялся
на улицу к
друзьям или
усаживался
перед
телевизором…
Да, - я пришёл
к этой горе
не потому,
что страстно
хотел взойти
на неё, да, - она
мне смертельно
надоела, и во
всём этом
мероприятии
было очень
мало любви к
горам и очень
много
посторонних
соображений,
но где-то в
глубине души
я всё же не
мог поверить
в то, что я не
получу свою
конфету…
Нельзя
сказать, что
во всех прочих
отношениях
жизнь
закармливала
меня
сладостями,
но трудно
изменить то,
что заложено
в тебя с
самого
детства.
Я заметался…
Ребята
готовы были
уйти с седловины
хоть сегодня,
если наше
съёмочное руководство
даст на то
своё добро, а
мне уже было
наплевать на
съёмку, на
которую я
отработал четыре
выхода. Пятый
выход был
мой: это была
моя
последняя
возможность,
мой шанс, моя
зарплата, в
конце концов,
и я готов был
сидеть на
седловине до
упора –
столько,
сколько понадобится…
- Вы лишаете
меня шанса
взойти на
вершину – говорил
я ребятам,
взывая к
сочувствию,
но сам его не
проявляя …
- Ян, пойми нас
правильно: мы
пришли сюда
не для того,
чтобы взойти
на вершину:
мы здесь для
того, чтобы
снимать
фильм... Если
погода позволит,
и если это
потребуется
для фильма, мы
пойдём на
гору, но если
погода будет
так себе –
восхождение
теряет для
нас всякий
смысл: в
плохую
погоду мы всё
равно не сможем
отснять
ничего
стоящего, а
сидеть тут просто
так довольно
опасно, - я не
вижу причин
подвергать
себя риску…
- Я, вообще, не
могу долго
сидеть на
одном месте… –
вступил Саша
Коваль с
неожиданным
темпераментом,
нервически
теребя
клочковатую
бороду – я не
привык долго
сидеть по
лагерям, я привык
- или вверх,
или вниз…
Отсидка в
лагере сводит
меня с ума, и я
не буду здесь
долго сидеть...
Если погоды
завтра не
будет, я уйду
вниз, - сидеть
здесь долго я
не могу…
Я был в
отчаянии: я
умолял, давил
на совесть, взывал
к их
восходительскому
честолюбию, говорил,
что останусь
тут один и
буду дожидаться
погодного
окна в гордом
одиночестве.
Я понимал,
что ставлю их
в неловкое
положение, не
имея на то
никакого
морального
права, но
ведь мы были
одной
командой в
течение трёх
долгих
недель и
вместе
совершили
четыре
непростых
выхода на
гору, а
теперь они лишают
меня моего
единственного
шанса постоять
на вершине,
на которой
сами
побывали неоднократно...
- Я не могу
долго
находиться
на этой
высоте, для
меня это
опасно… –
произнёс
Валера, нащупывая
точку опоры,
и сослался на
медицинскую
проблему… Я
умолк, не
зная, что
ответить. Тут
же
встрепенулся
и Саша, у
которого
тоже обнаружились
медицинские
противопоказания
к отсидке в
пещере, хоть
и совсем
другого
характера –
не такие, как
у Валеры…
Наступило
тягостное
молчание. Они
были смущены
сказанным, а
я чувствовал
себя затравленным,
обезоруженным
и загнанным в
угол. Это был
очевидный
удар ниже пояса…
Наконец, я
выдавил из
себя,
закрывая
тему:
- Знаете,
насчет
медицинских
проблем, вам
виднее, - что я
могу
сказать... Но я
точно знаю,
что если бы
это было ВАШЕ
восхождение
и ВАША вершина,
вы сидели бы
тут до упора
и вышли бы в любую
погоду…
На удар ниже
пояса я
ответил
ударом ниже
пояса…
Мы молчали,
Валера
поигрывал
желваками. Саша
Коваль
заёрзал… « Я
пойду с
тобой» –
сказал он,
решаясь, –
«если погода
даст шанс, мы
поднимемся
на эту гору…»
Я был
благодарен и
опустошен
одновременно.
Это была
победа, но
это была
победа
Пиррова…
- Давайте
посидим тут
хотя бы до
послезавтра.
Если до
послезавтра
ничего не
изменится, уйдём
вниз – сказал
я, чтобы,
во-первых,
ответить
хоть что-то, а
во-вторых –
пройти свою
половину
пути…
Я был
недоволен
собой, я был
недоволен
ими, но более
всего я был
недоволен
горой, столкнувшей
нас лбами…
Весь день
мело с
переменным
успехом, а
под вечер мы
получили
прогноз
погоды: "в
течение
ближайших
нескольких
дней - без
изменений к
лучшему..."
Всё было
напрасно -
весь этот наш
спор, вся эта
ломка копий.
Видимо,
прогноз
обезоружил
не нас одних:
в течение
всего этого
дня
седловина
Хана вымирала,
и вихри снега
метались и
суетились, спеша
запечатать
рты пещер,
распахнутые
в изумлении
от
неожиданного
бегства
постояльцев...
Надо
признать, - я
проиграл и на
этот раз...
С новой
силой встал
вопрос о
целесообразности
нашего тут
пребывания, и
на этот раз
мне уже
нечего
возразить
ребятам...
«Если завтра
утром погоды
не будет» -
подавленно
соглашаюсь я
– «пойдём вниз...»
Затем,
помолчав,
зачем-то добавил:
«...а
послезавтра
будет
погода...»
Я знаю, что не
должен был
этого
говорить.
Последний
конфликт - на
этот раз,
несколько комического
свойства -
разразился
поздно ночью,
после одного
из тех
сеансов
связи, посредством
которых
Гошины
кинематографические
фантазии
дохлёстывали
до наших
горних высей...
- Я никуда не
пойду! -
говорю я злым
и склочным тоном
– передай
Гоше, пусть
выроет нору в
базовом
лагере и
снимает там
Лёшин выход
хоть всю ночь
напролёт!..
- Я дам тебе
рацию, скажи
ему это сам!.. -
Лихорадочный
румянец
пробивается
сквозь археологические
слои
солнцезащитного
крема на
Валериных
скулах…
- Дай, дай мне
рацию!.. Я
скажу ему
ВСЁ, что я думаю!..
- дай мне
рацию!..
- Ян, к чему
эти
разговоры?..
Это моя
работа, мой долг:
я должен
отснять все
эпизоды,
которые
нужны Гоше с
Лёшей... –
настаивает
Валера, и я
чувствую, как
его
дисциплинированная
душа
изнемогает
от одной
только мысли,
что
съёмочное
задание,
поступившее в
три часа ночи
из базового
лагеря в
пещеру на
седловине,
может
остаться
невыполненным…
- Ага-а-а! –
продолжаю
злобствовать
я – как на вершину
идти, так это
"плохая
погода", а как
тащиться на
гребень для
дурацких
имитаций, так
«Ян, давай,
давай!..»
Валера
обиженно
замолкает, и
в наступившей
тишине я
начинаю
потихоньку
остывать, всё
ещё потрескивая…
Саша молча
восседает на
своём ледяном
«топчане» и
теребит
бороду по
сложившемуся
у нас
обыкновению…
В
полтретьего
ночи он
проверил
погоду и вынес
вердикт: «в
такую погоду
на гору не
ходят».
Посовещавшись
на средних и
повышенных тонах,
мы договорились
встать в
пять, с
рассветом, и
проверить
погоду ещё
раз. Выход в
шесть утра
всё ещё
оставлял нам
шанс взойти
на вершину.
Валера
связался с
базовым и
доложил
обстановку
руководящему
дуэту –
режиссёру и
продюсеру.
Тут-то и
выяснилось,
что выход из
пещеры в
лучах
рассвета
решительно
не вписывается
в Гошину
художественную
концепцию. «Вы
можете идти,
когда угодно»
- сказал он –
«можете
вообще
никуда не
идти, но вы
должны отснять
ночной выход
на
восхождение!».
Я к этому
моменту
(второй день
отсидки в унылой
берлоге…) был
взрывоопаснее,
чем пояс шахида.
Мысль о
каких-то там
пошлых
имитациях была
мне противна
и
унизительна,
она оскорбляла
самую суть
моей
тоскующей
восходительской
души... Какая
пошлость:
выйти якобы
на восхождение,
«мужественно»
тропить по
колено в
снегу,
изображая
непреклонную
решимость,
чтобы через
пять минут,
по команде
«Всё! Снято!»,
юркнуть
обратно в
пещеру… Бр… Ни
за что! В
гробу я видел
этот
кибениматограф,
эту хренову
"фабрику
грёз"!..
Не хочу и не
буду!.. Я
предпочитаю
использовать
оставшиеся
пару часов на
отдых перед
всё ещё возможным
восхождением,
вместо того
чтобы участвовать
в этих
несуразных
игрищах.
Валера
сидит
печальный и
растерянный,
приютив на
коленях
бесполезную
камеру…
- На гребень я
не полезу, -
даже не
думай, но выход
из пещеры и
начало
движения
вверх по
склону мы, пожалуй,
можем
отснять…
Валера
вскакивает и,
не говоря ни
слова, начинает
готовить
камеру к
съёмке…
Спустя
десять минут,
чертыхаясь и
проклиная
килограммы
сухой
ледяной пыли
мгновенно
проникающей
в малейшие
прорехи в
моём пуховом
облачении, я
выкатываюсь
в колючий
непроглядный
мрак…
В какой
именно
степени мне
важно было
взойти на эту
гору, я понял
лишь утром,
упаковывая
рюкзак для
спуска. Меня
душили
ярость и обида,
и я никак не
мог поверить,
что всё кончено.
Я знаю, что
эта гора,
этот
безмозглый и
безжалостный
истукан, -
всего лишь
смёрзшаяся груда
камней, нечто
куда более
примитивное, чем
последняя
амёба в
придорожной
луже, и, в то же
время, я не
могу не
относиться к
ней, как к
живому,
надменному и
мстительному
божеству. Я
возненавидел
её, порвал с
ней
окончательно,
я никогда в
жизни ничего
не попрошу у
неё, и я не
хочу больше
видеть этого
молоха, эту
белозубую
морозильную
камеру, в
которую
каждый год
отправляется
очередная
порция
человеческого
мяса...
И я знаю,
что у неё
есть ещё
целый день,
на то чтобы сполна
рассчитаться
со мной за
эти слова...
Мы
спускаемся
со второго
лагеря - я и
Валера. Гора
хорошо
выспалась в
тёплых
утренних туманах,
потянулась,
зевнула и,
вспомнив давешнюю
обиду,
метнулась
нам вослед...
Над
черными
ульями скал
заметались
снежные
пчёлы,
загудели,
закусали
щеку, ветер
усиливался, -
он дул ровно
и мощно, он
выглаживал
гибкой
ладонью
место
предстоящей
экзекуции.
Исчезло небо,
отвернулось,
обратив к нам
серый в
проплешинах
затылок,
словно
говоря нам:
"моё дело -
сторона, это
ваши с нею
разборки..."
Мы
скользили
вниз по
гребню в
струях пыли цвета
потухшего
серебра,
увёртывались
от оплеух
ветра, а на
перестёжках
тоскующее железо
покусывало
нам кончики
пальцев. Второй
лагерь был
снят и упакован
в рюкзаки,
потяжелевшие
втрое, и
малейшее
проскальзывание
или неловкий
шаг могли
обернуться
стремительным
падением с предсказуемыми
последствиями:
скольжение вдоль
глазурованной
льдом
направляющей,
узел или
станция,
удар, глухой
хлопок лопнувшей
усталой
верёвки и
долгий полёт
болидом
снежной пыли...
Врывающийся
в
разодранные
криком лёгкие
радостный
космический
воздух,
несущийся
навстречу
астероид
скал,
проглоченная
от удара
буква О,
тишина...
Конец фильма.
Ветер
выдувает
стылые
верёвки за
гребень, и
каждую такую
верёвку я
вытягиваю,
как рыбак сети,
полные
мороженной
рыбы, - со
стонами и матерным
рычанием.
Иногда такая
верёвка повисает
за снежным
карнизом
длинной
вибрирующей
на ветру
дугой, под
которой
развеваются
снежные
гривы.
Местами
верёвки
заключены в
прозрачный
чехол,
который
лопается на
изгибах и
брызгает
ледяной
крошкой.
Когда запотевают
лыжные очки,
и мгла
удваивается,
я останавливаюсь
и
приподнимаю
нижнюю кромку,
позволяя
настырному
ветру
нырнуть в образовавшийся
зазор и
выдуть пары.
Вырвав
из-под снега
или вытянув
из-за карниза
очередную
верёвку, я
продолжаю
спуск на
ломких коленях,
- дрожа от
напряжения,
сжимая
скользкий
канат до
судорог в
ладонях...
Похоже, ещё
долго я буду
просыпаться
со сжатым
кулаком, из которого
неумолимо
ускользает
кольчатый
полоз
верёвки...
Одеяло
мглы
становится
всё плотнее,
ветер подтыкает
его со всех
сторон -
торопливо, нервно.
Я чувствую,
как нечто
тяжелое,
давящее
сгущается
вокруг меня,
и это нечто
заставляет
меня, стиснув
зубы, ползти
вниз по гребню
- упорно, не
останавливаясь
ни на минуту
до тех пор,
пока силы не
покидают
меня, и я,
креня рюкзак,
не заваливаюсь
в снег на
очередной
станции.
Сижу,
дыша...
Равнодушно
отмечаю
паскудную суету
ветра,
пытающегося
заровнять
меня, превратить
в плоский
могильный
холмик. Встаю,
вырываю на
колено
рюкзак,
подныриваю
плечом в
лямку, и,
выбрав из
пучка
свисающих со станции
разноцветных
сухожилий
наименее
истёртое,
продолжаю
свой
муторный
бесконечный
спуск.
Непрерывность
восприятия
нарушена, и я
воспринимаю
окружающее,
как смену контрастных
кадров,
взрывающих
мозг: сливочная
волна
карниза,
торжествующий
снежный флаг,
выброшенный
гребнем,
вставшая на
дыбы верёвка,
горизонтальные
вибрирующие
струи снега,
вырезанная
из чёрного
картона фигурка
Валеры...
Раскадровка
реальности...
На скальном
поясе
траверсирую
чёрные
лобики, покрытые
коркой льда,
словно на них
выступила и
замёрзла
холодная
испарина.
Прежде чем
сделать шаг,
сметаю
перчаткой
сухие холмики
снега,
проясняя
зацепы для
заскорузлых
негнущихся
пальцев.
Думаю о том,
что, если сорвусь,
и перила
выдержат, с
рюкзаком мне
обратно уже
не выбраться,
но чудом не
срываюсь и,
добравшись
до станции,
жду Валеру.
Валера
выныривает
из кружевной
снежной круговерти.
Он смотрится
столь
эффектно на вертикальных
запорошенных
скалах, что я
нахожу в себе
силы достать
из рюкзака
фотоаппарат
и, затаив
нетерпеливое
дыхание,
сделать несколько
кадров. В
горах, на
маршруте
редко кто
находит в
себе силы и
желание
снимать в
непогоду, и
потому горы
почти всегда
предстают
перед
неискушенным
зрителем, как
разукрашенный
лазуритом и
амальгамой
готический
торт на
белоснежном
подносе
снегов, хотя,
столь же
часто, они
представляют
из себя
сияющее
ничто, сиплую
сухую сечку
или воющее
нутро
стиральной
машины.
Первый
лагерь
присыпан
тяжелым
мокрым снегом,
в котором чернеют
снулыми
жабками
немногочисленные
палатки. В
этом оазисе
безопасности
хочется
задержаться
подольше,
хочется
отдыха и
горячего чая,
но снег
продолжает
падать, укладываясь
на склонах в
смертоносные
пласты,
готовые
соскользнуть
в любую
минуту... Надо
бежать вниз,
пока не
поздно. Если
ещё не поздно...
Валера
говорит по
рации с
"дядей
Мухой" - начальником
базового
лагеря, о
котором так и
не сложилось
у меня
рассказать,
хоть он и заслуживает
отдельного,
самостоятельного
рассказа.
Валера
выспрашивает
его о
состоянии
нижних
склонов и
получает
осторожное
добро на
спуск. Мы
могли бы
остаться в
первом
лагере до
утра, а утром
быстро сбежать
вниз по
смёрзшемуся
снегу да со
свежими
силами, но
притяжение
базового
слишком велико,
- слишком
велико
желание
покончить со
всем этим
сегодня же,
не
откладывая в
долгий ящик.
Вот так и
случается в
горах
большая
часть
"нелепых
смертей" - от
желания
сократить
себе дорогу к
теплу и уюту...
Валера
выходит из
лагеря
впереди меня.
Он катится
вниз вдоль
перильной
верёвки уверенно,
как плуг, -
откидывая в
отвал пласты
свежего снега,
а на меня
навалилась
парализующая
усталость, я
спотыкаюсь
на неверных
ногах и подвисаю
на перилах...
Валера
терпеливо
ждёт меня на
станциях,
хоть я и
уговариваю
его бежать
вниз, не
задерживаясь.
И даже когда
мы выходим на
открытый
склон -
последние пятьсот
метров
вязкой
снежной каши,
- и сразу же
выясняется,
что скорость
его спуска втрое
превышает
мою, он
продолжает
со мной спорить:
он ни за что
не хочет
оставить
меня одного,
хотя в случае
схода мокрой
лавины никто
из нас не
сможет
помочь
другому - это
была бы
верная
смерть
обоим...
Бессмысленный,
абсолютно
иррациональный
жест с его стороны,
но знаете...
после такого
жеста, мне уже
ничего
больше не
нужно знать о
человеке.
Сбежав,
наконец, вниз
к безопасным холмам
морены,
долгие сорок
минут Валера
наблюдал за
моим
мучительным
сползанием по
склону. Ноги
отказали мне:
они
подламывались,
как
суставчатые
ходульки
новорожденного
жеребёнка…
Набившиеся в
кошки килограммы
липкого
снега
треножили
меня, и я летел,
соскальзывал,
перекатывался,
лежал,
собираясь с
силами,
вставал на
ноги и снова
заваливался.
Я знал, что
должен
бежать вниз,
как можно быстрее,
я спиной
чувствовал
нависшие
надо мной
массы снега,
словно гора
наклонилась
и дышала мне
в затылок, но
я ничего не мог
поделать с
предавшим
меня
организмом.
Я ненавидел
эту гору -
изобретательную,
изощрённую,
тщательно
продумывающую
во всех деталях
механизм
своей мести,
играющуюся со
своей
жертвой в
"кошки-мышки".
Я ругал её: сперва,
выбирая
выражения,
помня, с кем я
имею дело, но,
по мере того,
как меня
захлёстывали
ненависть и
бросающее
вызов
презрение,
выражения
мои крепли,
сметая все и
всяческие
границы.
В какой-то
момент меня
пронзило
острое ощущение
конца игры...
Всё
происходившее
со мной до
сих пор вдруг
выстроилось
в логическую
цепочку,
ведущую к
неумолимому
финалу:
приближался
конец фильма
под
названием
"моя жизнь"...
Все события
последнего
времени,
нелепая
убеждённость
в том, что моё
участие в
этой
экспедиции -
это перелом и
начало
чего-то
нового, все
мои последовательные
неудачи на
этой горе, -
всё это
целенаправленно
вело к одной
единственной
логически
обусловленной
развязке. Кто
виноват, если
признаки
конца я
принял за переломный
момент и за
признаки
начала... В конце
концов, за
кульминацией
чаще всего
следуют
развязка и
титры, а не
раскрутка
новых занимательных
сюжетов.
Я
почувствовал
себя голым и
беззащитным
на этом
гигантском
склоне, -
раненным и
безоружным...
Гора
раскладывала
передо мной
свои козыри с
бесстыдством
матерого
шулера. Всё
выглядело
настолько
откровенно,
что холодела
душа, и отчаяние
переплавлялось
в ярость: я
проклинал
эту гору,
бросал ей
вызов со
страстью обезумевшего
богоборца.
Сила
ненависти
поднимала
меня на ноги
и вела вниз, и
она же заставляла
меня не
оборачиваться
в попытках умолить
неизбежное.
Даже когда я
свалился на
сырой камень
морены,
насквозь
промокший и
звенящий
умытым
железом, я не
мог поверить,
что гора
отпустила
меня: мне
казалось, что
это лишь
очередной
ловкий ход в
игре, целью
которой,
несомненно,
являлось
прикончить
меня.
Валера
белел лицом в
наступающих
сумерках. Его
колотило от
холода.
- Я пойду?.. -
вопросительно
произнёс он
- Да, конечно...
Я должен тут
немного
посидеть... Спасибо,
Валера.
Я
сидел и
смотрел на
закат. Как по
мановению
волшебной
палочки утих
ветер, а снег
перестал
падать,
словно его
срезали большими
небесными
ножницами.
Над волнистым
безымянным
отрогом
тончали
пушистые арки
облаков, и
вся картина -
все горы, и
небо, и ледник
- была
выкрашена в
оттенки
прощального
розового...
Чайный
розовый сад,
трепещущий
кружевами
листьев...
Всё
менялось на
глазах:
облака
расслаивались:
самые
тяжелые
большими
мохнатыми
хлопьями
выпадали в
небесном
растворе,
укутывая
собою
вечерние
горы, лёгкие
нитчатые структуры
устремлялись
ввысь, а
между первыми
и вторыми
толпились нерешительные
перламутровые
барашки. По склону,
с которого я
только что
спустился, припухшими
ранками
тянулась
цепочка
следов.
Всё это было, -
как
воскресное
мороженное, как
сахарная
вата, как
любовь
четырнадцатилетних:
не хватало
лишь
гирлянды
сердечек да
россыпи
фиалок по
индевелому
фону, не хватало
канители...
Я подумал о
том, что
завтра будет
хорошая погода,
что вот она -
заваривается
сейчас в этом
фарфоровом
вечернем
чайнике, но
мысль эта не
принесла с
собой досады.
Скорее - спокойное
удовлетворение
от того, что я
понимаю пути
и устройство
мира, в
который
выслан на
поселение...
Стремительно
темнело, и
столь же
стремительно
холодало. Я
снял кошки и
убрал в
рюкзак
обвязку.
Отошел в
сторонку и
оставил
роспись на
листе
закатного,
стекленеющего
снега. Вернулся
к приютившей
меня глыбе,
допаковал
рюкзак,
приладил
расхристанную
во время безоглядного
спуска
одёжку и
отрегулировал
по-новому
лыжную палку.
Поднявшись
на морену, я
быстро нашел
цепочку
Валериных
следов, отчетливо
выделяющихся
на свежем
снегу. Если
мне повезёт,
и я их не
потеряю, они
доведут меня
до самого
лагеря даже в
полной
темноте.
Сперва, я
спотыкался и
потел, спеша
угнаться за
ускользающими
сумерками, но
вскоре стемнело,
мне пришлось
зажечь
налобный
фонарик, и
спешить
стало некуда.
Ночным
следопытом
петлял я по
леднику,
глазурованному
светом луны и
звёзд, тыкая
световой
указкой то
вправо, то
влево, пока
не находил
путеводную
цепочку
следов.
Несколько
раз цепочка
прерывалась,
теряясь в
нагромождении
камней или же
на голых
ледовых
проплешинах, но,
порыскав
какое-то
время, я
всегда
находил её
снова. На
противоположном
берегу
загорелась
одинокая
звезда, и я
понял, что
это луч фонарика.
Он пометался
зигзагом,
ненадолго
погас, затем
загорелся
окончательно
и продолжал
служить мне
робким
игольчатым
маячком всё
то время,
пока я
пересекал
ледник. После
того как,
перепрыгнув
через
знакомую мне
трещину, я
понял, что
между мной и
лагерем нет
больше
серьёзных
препятствий,
я полетел
прямиком на
его свет, -
тяжёло
гружённый
простуженный
мотыль с
изнурёнными
крыльями.
С десяти
метров меня
окликнули.
Это был Лёша…
- Ты в
порядке?..
- В порядке.
- С
возвращением!
- Спасибо. Всё
кончилось,
Лёша…
- Идём в
столовую –
там ужин
полным ходом.
- Ты не ел ещё?..
- Не… Ждал вас
с Валерой.
Идём, Валера
уже там.
- Спасибо,
Лёша.
Я встал до
рассвета и
тихо
выскользнул
из палатки.
Чистое
глубокое
небо без
единой помарки
обнимало
молочную
чашу
Иныльчека, а над
Мраморной
Стеной, там,
где должно
было приподняться
красное веко
солнца, в
небо устремлялись
реактивные
струи: словно
Земля,
включив
могучий
ионный
двигатель, раскручивала
себя
навстречу
солнцу и серебристому
планетарному
ветру.
«В честь чего
салют…»
подумал я, но
наступающий
день был
настолько
прекрасен, он
начинался
столь
победоносным
фейерверком,
что не было
сил на бесплодные
сожаления.
Сама природа
утверждала
себя этими
космическими
фонтанами света,
и маленькому
чуткому
человеческому
сердцу
оставалось
только
перейти в её
стан – раствориться
в её красотах
и разделить с
нею сладость
победы.
Стёпа
решительно
не мог
заинтересовать
меня, чуждого
деревенской
прозы и
поэзии: серьёзный
мужик из
города
Кумысска
Чингизханской
области, -
незатейливо
срубленный,
долговязый, с
неуклюжей
мельницей
рук... Он был самым
неприметным
ребром
треугольника,
широким и
очевидным
основанием
которого
служил Евдакум
– каламбур и
заводила,
преуспевающий
деловой
человек
нового
постсоветского
востока,
парадоксальным
образом
ностальгирующий
по советской
власти,
которая ни за
что не
позволила бы
ему
преуспевать…
Другим ребром
треугольника
был Лёха –
могучий
парняга с бритой
головой и
гладкими
мускулами
профессионального
вышибалы. Всё
хрустело под Лёхиным
каблуком, от
него веяло
матерком и ответом
за базары.
Нет ничего в
этом мире, кроме
горы
Хан-Тенгри (и
где-то тут
глубинно правы,
надо
признать,
Лёша с Гошей),
что могло бы
свести меня
на короткую
ногу с этой
троицей. Мы
были
вылеплены из
несмешиваемых
и взаимно
непроницаемых
субстанций...
Зажав в
зубах
ленточку
своей
воображаемой
бескозырки, я
вёл свой
последний
бой на подходе
к скальным
поясам между
первым и
вторым лагерем,
сплёвывая
распухшими
губами мольбы
и проклятия.
Передо мной
маячил, то
приближаясь,
то удаляясь,
доходяга
кореец, надолго
повисавший
на перильных
верёвках, как
бельё в
безветренный
день, но как
только я приближался
к нему, он
распрямлялся
раскладным
ножиком, и
продолжал
ползти вверх,
не давая себя
обогнать.
Было видно,
что ему давно
и безнадёжно
плохо, но его
азиатское
твёрдоскулое
и хищнозубое
упорство
гнало его вверх
точно так же,
как меня моё
еврейское –
ползучее и
чертополошное.
Я догнал его
на скалах,
где он присел
отдохнуть на
удобной
перестёжке
перед крутым
взлётом, с
которого
свисали
разноцветные
ошмётки
верёвок.
Когда я
поравнялся с
ним, он улыбнулся,
сказал «Гуд» и
вытащил из
кармана
куртки свой корейский
«сникерс»,
который
оказался мне
как нельзя
кстати. Я не
стал
ломаться:
«сэнкюверимач!..»,
и тут же
запихнул
«сникерс» в
рот.
Кореец
остался
сидеть на
скальной
полочке, а я
пожумарил
дальше, думая
о тех вещах, о
которых так
хотел
рассказать
Гоша в нашем
фильме: о том,
что в таком
месте, как эта
гора, когда
не остаётся
более ни сил,
ни мыслей, ни
человеческого
языка, не
говоря уже о
политике,
религии и
прочих
«надстройках»,
между людьми
последним
мостом
становится
такая вот
крохотная
шоколадка.
Это такая
частная, не
всеобъемлющая,
не распространяющаяся
за пределы
нашего
промороженного
скального
бастиона, но,
тем не менее, -
несомненная,
правда…
Когда я
выбрался на
снежное
плечо под
"верблюдом",
что стало для
меня, как я
уже говорил,
своего рода
маленькой
личной
Курской
Дугой,
переломившей
ход сражения,
я обнаружил в
"снежном
корыте" ту
самую
колоритную
троицу, о
которой я, собственно,
и взялся
рассказать. У
них вовсю гудела
горелка, и
разливался
по термосам чай,
и они
протянули
мне кружку,
хотя у меня
был свой
термос и свой
чай.
Затеялась
обычная для
случайных
попутчиков
беседа: кто да
откуда, да
где бывал в
прежние
времена. Евдакум
выспрашивал
меня на тему
"есть ли жизнь
в Израиле",
проявляя
благожелательное
любопытство,
Степан
внимательно
слушал, а Лёха
ковырял
снежок и
сдерживал
невнятные
порывы души.
Со своей
стороны, я
узнал, что они
откомандированы
на покорение
Хан-Тенгри
кумысской
общественностью,
возлагающей
на них
немалые
надежды, а их
восхождение
подробно
освещается в
местной
кумысской
прессе.
На груди у
Степана я
приметил
неожиданно серьёзную
фотокамеру-«зеркалку»:
то ли "Кэнон",
то ли "Никон".
Простой
смертный, не
обременённый
художественными
амбициями, не
заносит
такую пушку
на эту гору,
подумал я.
В это время
на плечо
выполз мой
кореец, скользя
вдоль
перильного
каната, как
умирающий
троллейбус к
своей
последней
остановке...
Докатившись
до
безопасного
места, "троллейбус"
отстегнул
свои
"бугели" и
направился к
нашему
"корыту".
Кто-то из
кумысской
троицы
прошелся по
нему с легким
пренебрежением,
имея в виду,
при этом,
всех
корейских альпинистов
вообще - одно
из тех
небрежных обобщений,
которые мы
позволяем
себе, не переставая
при этом быть
убеждёнными
интернационалистами…
В других
обстоятельствах
я вполне мог
бы
поучаствовать
в таком вот
ритуальном
облаивании
случайного
чужака, но тут
я вступился
за "своего"
корейца: "Он
нормальный
мужик: отдал
мне
последний
сникерс… Мы
можем
напоить его
чаем?"
"Мы"
напоили его
свежеприготовленным
чаем, за что
кореец долго
благодарил
нас мелкими
частыми
поклонами на
свой
дальневосточный
манер.
На подъёме к
«верблюду» у
меня
открылось
второе
дыхание, я
нагнал, а
потом и
перегнал кумысцев,
которым было
так плохо,
как только может
быть плохо не
акклиматизированным
людям на пяти
с половиной
тысячах
метров. Лёха
проводил
меня
удивлённым
взглядом
человека,
открывшего
для себя
что-то новое
и существенное,
а Евдакум –
взглядом
уважительным
и усталым.
Какое-то
время я
слышал за
спиной
Стёпины
стоны.
Накануне
нашего
отлёта, когда
гора уже
пережевала
нас и
выплюнула, а
кумысцам
только-только
дала понять
почем фунт
лиха, и они
спустились в
базовый лагерь
набираться
сил ко
второму
выходу, мы со
Стёпой
разговорились
на тему
фотографии.
- Ты всерьёз
этим
занимаешься?
– кивнул я на черную
глазастую
зверюгу,
которую он
бережно
протирал
бархатной
тряпочкой,
положив на
колени.
- Я
профессиональный
фотограф –
сказал Стёпа
серьёзно, с
чувством
собственного
достоинства –
я снимаю на
свадьбах, но
хочу фотографировать
природу. Я и
сейчас
фотографирую
природу. Я
посылаю
фотографии в
такие
журналы - о
природе,
путешествиях,
знаешь?
- Знаю. У меня
недавно
купило
несколько
фотографий
одно
итальянское
издательство…
- о, это мелкое
тщеславие, -
простительная
только в
других
слабость!..
- Да? Я посылаю
в русские.
Фотографирую
и посылаю. Горы,
пейзажи. Есть
интересные
кадры.
- У тебя рано
или поздно
купят. Ты
снимаешь на
плёнку?
- Да, я снимаю
на плёнку.
- Пришлёшь,
когда
напечатаешь?
Отсканируешь
несколько
фоток?
- Да, но не
скоро. Дай
свой адрес.
- Бумажка
есть?
Мы
помолчали. В
небе появилась
первая
звезда и
повисла над
плоским, блекнущим
на глазах
перламутровым
облаком, как
капля
расплавленного
металла над
наковальней.
Стёпа
бросил на
меня быстрый,
смущённый взгляд
человека,
опасающегося
оказаться не понятым,
и заговорил
горячо и
сбивчиво:
- Я бы хотел
снимать
звёзды, но
ведь невозможно
соревноваться!..
С НИМ
невозможно
соревноваться…
- есть такой
телескоп в
космосе, я видел
его снимки…
- Телескоп
Хаббла?..
- Да, Хаббла… Я
видел
фотографии –
все эти галактики,
планеты,
звёздные
скопления –
красота
непередаваемая!..
У меня есть
телескоп
дома, но с
ЭТИМ ведь
невозможно
соревноваться…
- он
сокрушенно
покачал
голой и умолк.
- Да, с Хабблом
трудно
соревноваться
– я посмотрел
на Стёпу с
сочувственным
интересом.
Мы сидели с
ним на
скамейке и
наблюдали
набирающую
силу
вечернюю
звезду, столь
далёкую, что
даже
телескоп
Хаббла с его леденяще
прозорливым
глазом не в
силах был
превратить
её в
банальный в
своей плоской
очевидности
диск, и это
привносило в
наши души
грустный
покой и
примиряло с телескопом
Хаббла и его
непостижимым
совершенством.
После
завтрака мы
выставили
рюкзаки и баулы
на
вертолётную
площадку и
вернулись к столовой
- окунуться в
осеннюю
круговерть прощаний,
с её заведомо
обречёнными
обещаниями
писать, с
перекрёстным
опылением адресами
электронной
почты, с
поисками мимолётных
приятелей, с
которыми
абсолютно необходимо
сфотографироваться
прямо сейчас,
ибо другого
случая не
представится...
Фотографирующиеся
восходители
и персонал
лагеря
образуют
сложные
букеты и
соцветия,
тасуются, как
карточная
колода,
укладываются
в причудливые
калейдоскопические
узоры. Частные
междусобойчики
отдельных
групп и коллективов
сочетаются с
повальным
стремлением
оказаться в
одном кадре с
Урубко и его
командой, с
начальником
лагеря -
неутомимым «дядей
Мухой», с
симпатичными
подначальными
ему девушками.
Урубко
блистает и
гусарствует
всё утро: ворот
флисовой
куртки -
этого
альпинистского
доломана -
поднят под
горло,
подчеркивая
мужественное
вознесение
головы, левая
рука
уверенным
нижним
хватом
сжимает гриф,
правая -
небрежно
прогуливается
по струнам.
Репертуар
непритязателен
и обращён к
простому
народу –
небрежно,
слегка
утомлённо… Мэтр
на отдыхе.
Где бы
Урубко не
приземлился
и не задержался,
он
конденсирует
на себе рой
заинтересованных
поклонников.
Кто-то робко
пытается
побыть рядом:
отпечатать в памяти,
сохранить
для себя и
передать
знакомым,
другие
стараются
оприходовать
и присвоить:
хотя бы на
время, на
пару часов
сделаться
своими в
доску, и это
выглядит
убого и
нелепо,
поскольку,
кем бы ни был
окружен Урубко,
с кем бы ни
говорил и
кому бы ни
ронял с губ
своих
необременительных
песен, он продолжает
следовать
своей, одному
ему известной
орбитой:
неуклонный
астероид,
возмущающий
своим
притяжением
прочие тела,
но сам не
отклоняющийся
ни на йоту.
Я покидаю
Хан-Тенгри с
досадой, но
без сожаления.
Единственное,
чего бы мне
хотелось, -
это никогда
больше не
возвращаться
в эти места.
Гора не
виновата, что
я пришёл к
ней со своими
нелепыми
претензиями
и амбициями.
В конце
концов, она
действительно
всего лишь
одна из
многочисленных
складок
планетарной
коры,
выдавленных
к границам
стратосферы
бестолковыми
тектоническими
плитами. Даже
прикончить
меня или
оставить в живых
было вне её
компетенции.
Максимум, она
послужила
инструментом,
с помощью
которого мне
был преподан
некий урок,
полный смысл
которого я не
уяснил и по
сей день.
Кто виноват,
что я сел не в
свои сани,
оказался в
монастыре,
устав
которого мне
понятен, но
чужд… Нельзя
позволять
себе
«подходить к чужим
столам», будь
то люди или
горы, и тогда ты
не станешь
коллекционером
обидных
щелчков по
носу.
Я прилетел
сюда снимать
фильм?.. Что ж –
отсняты
километры
условной
киноплёнки, и
свою работу
мы выполнили.
Если же ты
хочешь взойти
на вершину,
ты должен
прийти к горе
для самой
горы, с
людьми,
которые ищут
того же, что и
ты. Я говорю,
разумеется, о
горе серьёзной,
восхождение
на которую
представляет
для тебя
вызов.
Томясь на
взлётной
площадке в
ожидании вертолёта,
я пытаюсь
отдалить от
себя происшедшее,
увидеть его в
лёгком
ироническом
свете, но,
похоже, пройдут
недели, если
не месяцы,
прежде чем я
смогу над
собой
посмеяться, и
вся эта
«ярмарка
тщеславия»,
все эти
страдания
уязвлённого
самолюбия
покажутся
мне тем, чем
они являются
на самом дел:
бурей в
стакане воды.
Вечером,
после ужина,
мы собрались
у столовой,
чтобы выпить
и поговорить
на наши
любимые темы:
«кто», «где»,
«когда», «каким
образом», а
если не
сложилось, то
«почему не».
Расположились
за круглым
пластиковым
столом под
сенью
матерчатого
«грибка»,
расписанного
мелким
подсолнухом
с намёком на
Ван-Гога.
Сдвинули
стулья,
каждый привнёс,
что мог и
имел. Лётчик
выставил
водку и оказался
во главе
стола. От
выделялся
среди нас, с
какой
стороны ни
посмотри:
средь сплошь
истощавших,
сплошь
альпинистов,
сплошь -
после горы,
он был
гладок, широк
в кости,
уверен в
движениях, по
своему
харизматичен,
а главное – он
был Лётчик,
то есть фигура
в горах
культовая.
Это они,
лётчики-вертолётчики,
забрасывают
вас к
подножию
вашей
очередной
мечты, а потом,
когда
приходит
время,
подбирают и
возвращают
домой – к
байковому
теплу, к
мягкому
женскому
боку, к
мамкиной
герани на
окошке. Когда
кто-то из вас
попадает в
переделку, и
счёт ведётся
на часы, если
не на минуты,
именно в их
руках оказываются
ваши жизни, и
они рискуют
своими, чтобы
спасти ваши,
а если не
сложилось, -
вряд ли они
вернутся на
базу порожняком...
Куда скорее, -
ткнутся
упрямым
вертолётным
лбом в
грязный лёд,
ломая винты и
заливаясь
прозрачным
от гипоксии
жидким пламенем...
Ну, а когда с
вами, не дай
Бог,
случается
непоправимое,
они помогают
уже не вам, но
вашим
близким: дают
им шанс
бросить последний
взгляд на
родного
человека, да
горсть земли
на его
могилу.
Наш Лётчик
встал,
улыбнулся
открытой
гагаринской
улыбкой и
налил всем:
-
Мужики, я
хочу, чтобы
мы выпили за
вас - за альпинистов!
Я, знаете ли,
не хожу в
горы... Я тут -
рука обвела
дугой тускнеющие
горы - живу и
работаю, и
туда - ленинский
указующий
перст - не
поднимаюсь,
но я прекрасно
вас понимаю,
потому что
мы, лётчики, с
вами,
альпинистами,
повенчаны
высотой!.. - на
этой ноте он
поднял стакан
и склонил
голову, роняя
чуб... - Высота роднит
нас, - и мы, и вы
стремимся в
небо!.. - он сделал
ударение на
слове
"высота" и
помолчал в
конце фразы,
выдерживая
приглашающую
паузу.
- Вы
нас
вытаскиваете,
когда мы
попадаем в переделку...
- молодой парень
с
обветренным
смоленским
лицом и мелкими
ручейками
морщинок,
впадающими в
безмятежные
озёра глаз,
прошёл нашу
половину пути
навстречу
Лётчику...
Мы
привстали,
чокнулись и
выпили, и
Лётчик тут же
налил снова.
- Наше с вами
братство -
оно, как
боевое!.. и что
бы ни
случилось с
вами в горах,
вы всегда
сможете
положиться
на нас, на
лётчиков: мы
вылетим к вам
и в дождь, и в
снег, и в град -
в любую
погоду!.. И
сядем где
угодно: надо
на лёд - сядем
на лёд, надо
на скалу -
сядем на
скалу, надо
на... сядем, где
надо!.. - мы
сумеем снять
вас
отовсюду... - он
положил на
стол
уверенную
пятерню,
утверждая сказанное,
и опёрся на
неё всем
телом. Помолчал,
прицелился
глазом в
бутылку,
налил ещё по
одной.
- Мой друг
летал много
лет в Непале,
да и я летал
во многих
местах, и я
знаю, что
говорю: в
таких
условиях, в
каких
поднимают
вертолёт
НАШИ лётчики,
никто
вертолёт не
поднимает...
Мы
свинчиваем с
машины всё до
последнего
болта -
оставляем обшивку
и двигатель,
но мы
вылетаем,
чтобы спустить
людей вниз...
Потому что
люди - это
люди!.. И мне не
важно, кто
эти люди и
откуда они - я
имею в виду,
какой они
национальности,
потому что
любые люди -
это, прежде
всего, ЛЮ-Ю-ДИ!..
Он протянул
слово "люди",
подчёркивая
его вес,
затем снова
налил, но
часть из присутствующих
не допили
налитое в
прошлый раз,
а потому
отказались от
добавки.
Лётчик
продолжал
наливать,
пьянеть и
декламировать,
всё более
обнажая
перед нами вдохновенную
неприкаянность
своей души и
обнаруживая
острую
сердечную
боль за происходящее
в стране и в
мире... Мысль его
тяжелела и
скользила по
наклонной, а
боль всё
явственнее
оформлялась
в злобу, - безутешную,
мучительную,
бьющуюся в прутья
грудной
клетки.
- Мы, русские,
всегда и всех
отовсюду
вытаскивали,
вытаскиваем
и будем
вытаскивать -
мотнул он
хмурой,
тяжело захмелевшей
головой.
- Как они
могли... - он
снова
сокрушенно
мотнул головой
и протянул,
словно
спасая
трудную ноту,
- как могли-и-и!..
Как они
могли...
р-ребят наших...
р-ракетами...
Миротво-о-орцев!..
Понимаете:
ми-ро-тво-о-орцев!..
Сссу-у-ки...
Какие сссуки...
- после всего,
что мы,
русские, для
них сделали...
Потянулся к
бутылке,
придвинул,
звякнул, выпил,
уже не
предлагая.
- Они
думали, мы
насрём в
штаны и
сдадим им осетинов...
Болт!.. Мы
никого и
никогда не
сдаём... Ни
осетинов, ни
абхазцев!..
Суки, а с-суки
какие... Ребят
наших
ракетами...
Все полегли, -
ребята,
молодые
пацаны
такие... Ну
ничё, ничо-о-о,
бля, - мы им,
падлам, ещё
покажем... Мы
друзей нигде
не бросали... -
он
назидательно
поднял палец
и задрал
подбородок, -
пусть какая
угодно блядь
скажет, где
это мы друзей
бросили... По
всему миру помогали!..
Это
америкосы
сраные, чуть
что - в кусты, а
мы подыхали,
но на себе
тянули... Тяну-у-ли!..
Хлопнул
кулаком по
столу, налил,
выпил, мутно
глянул,
предложил
всем...
Все молчали.
Тонколицый
смуглый парень
с круглой
серьгой в ухе
откинулся
назад и
разрешил
себе
ироническую
улыбку... Он был
слегка -
благородным
образом -
горбонос, и, в
общем, более
всего
походил на
цыгана - артистичен,
пластичен,
одарён
очевидными
телесными
талантами. Из
таких гибких
смуглых
парней
получаются
прекрасные
скалолазы, но
вряд ли -
выдающиеся
высотники.
Впрочем, что
я в этом
понимаю...
Лётчик
посмотрел на
него долгим
проницающим
взглядом и
радостно
вспыхнул:
- Кавказец,
да?.. Нет, ты
скажи - ты
кавказец?..
- Кавказец,
кавказец...
Парень
ухмыльнулся...
Я вовсе не
уверен, что он
был
кавказцем, но
отрицать
было бы
как-то глупо...
- Вот ты скажи
мне, мы,
русские,
когда-то, вас,
кавказцев,
обижали?.. Нет,
вот ты скажи... -
он потянулся
к "кавказцу",
как бы
пытаясь
взять его за
пуговицу.
"Смоленский"
парень, друг
"кавказца",
попытался
перевести
стрелки
разговора, и
ему это на
какое-то
время
удалось,
поскольку
Лётчик был
уже
настолько
пьян, что
поддавался влиянию.
Но
присутствие
в этом мире
неизбывных,
неискоренимых
сук мучило
Лётчика,
лишая покоя и
душевного
равновесия.
- Ты вот
откуда?..
- Москвичи
мы...
- А-а-а, -
понимающе
протянул
Лётчик,
выпятив нижнюю
губу и
покачивая
головой -
МА-СКВИ-ЧИ!.. Поэтому
ты такой
патлатый, да?..
МАСКВИ-ИЧ!.. Па-нима-а-ю...
Вы же
особенные
там, бляха-муха...
- МА-СКВИ-ЧИ!..
Он мотал
головой,
сжимал и
разжимал
кулаки, шарил
по лицам...
Взгляды
присутствующих
ускользали,
стараясь не
встречаться
со взглядом
соседа, что
оказалось не
так просто:
нас было
довольно
много за
одним
небольшим
круглым
столом.
- Эти суки!..
Эти с-с-суки...
Мне стало
скучно и
противно, и я
встал и пошел
прочь, мимо
него, в
сторону
туалетов, но
он вскочил и,
не успев
преградить
мне дорогу,
окликнул:
- Э! Ты что -
уходишь?..
- Да, ухожу.
- Ты больше не
пьёшь с нами?.. –
он впился мне
в лицо мутным
взглядом:
топкое
болото, в котором
ворочалась
безутешная
злоба, ищущая
и не
находящая
«этих сук».
- Нет, мне –
хватит.
-
Интел-л-легент?..
Что он себе
думает?.. Я
чувствую, как
чёрная кровь
приливает к
лицу, а на
загривке
встают дыбом
волосы…
- Есть
немного…
Длинное-длинное
мгновение,
покачивание
на носках, -
болото
проваливается
внутрь, нехотя
втягивается…
- Ладно… -
говорит он,
махнув рукой,
– расслабленным
нижним махом
пьяного
человека…
- Л-ладно… -
роняет
голову на
грудь, затем
роняет всего
себя обратно
в
пластиковое
кресло, прогнувшееся
от
неожиданности
и более не
сумевшее
распрямиться…
Поздно
вечером,
перед сном,
мы молча
лежали в
палатке,
пялясь в
темноту.
- Видал этого
лётчика?..
Пьёт, как
лошадь... Чёт мне
перехотелось
летать этими
вертаками...
- Так он же не
пилот... -
хмыкнул Лёша.
- Как не
пилот?..
- Штурман, или
что-то вроде...
Этой сценой
можно было бы
открыть хоть
фильм, хоть
книгу, хоть
театральную
постановку:
Молодой, но
подающий
оправданные
надежды режиссёр
бьёт комаров
скрученными
в жгут
флисовыми
брюками,
проводя
рискованные
параллели с
геноцидом на
Балканах.
Продюсер
флегматично
жуёт
активированный
уголь,
полулёжа в
размётанной
постели, из-под
застенчивой
расписной
простынки торчат
его худые
волосатые
ноги.
"Сценарист"
с лицом плохо
умывшегося
вампира -
разрушительные
последствия
герпеса - наводит
режиссёра на
комаров и
отслеживает
брезгливым
глазом
траектории
падающих
из-под
потолка
комариных
"мессеров":
«Гоша, не над
кроватью!..»
Встретившись
взглядом со
своим
отражением в
замызганном
стенном зеркале,
он
сокрушенно
качает
головой:
«Лёша, посмотри,
что от меня
осталось...
Клочок свалявшейся
шерсти!..»
Оператор по
сложившемуся
обыкновению
исчез ближе к
вечеру под
предлогом
пива...
Мы живём
на Иссык-Куле
в пансионате
"Золотые
Пески", -
большом
суетливом
постсоветском
заповеднике.
Если признать
за
Иссык-Кулем
право
называться
"голубым
глазом
Тянь-Шаня", то
"Золотые
Пески" - обширный
гнойный
ячмень на
этом глазу...
"Золотые
Совки",
назвал бы я
это место...
Накануне
отъезда из
Каркары
Валера
отделился от
нас - уехал к
друзьям в
Алматы, и мы
кукуем на Иссык-Куле
вчетвером.
Пропуском в
этот
совковый,
гипсовый и
попсовый рай
служит
наличный
киргизский
сом,
пришедший
на смену
некогда
весомому
закулисному
слову. На
воротах,
отсеивая
граждан,
впавших в
грех неплатежеспособности,
маячит
местный
апостол с
круглым
лицом цвета
эскалопа.
По аллеям
бродят
счастливцы и
счастливицы
двух
отчетливых
таксонов:
дородные
семейные
пары - таких
называют
уважительным
словом
"чета" - и безалаберная
дискотечная
молодёжь -
оборвавшиеся
в свободное
плавание
мальки тех самых
семейных
людей. Первые
оккупируют
совковый,
гипсовый
сектор рая,
вторые -
попсовый...
Впрочем, в
день нашего
приезда я ещё
не был столь
придирчив к
местам и к
людям.
Хлебнув
высокогорья
и до отвала
наевшись снегов,
мы
радовались,
как дети,
всему, что
имело хоть
какой-то цвет
и запах, даже
если цвет этот
был цветом
рекламного
плаката, а
запах -
шашлычным
ароматом
духанов.
Последнему мы
радовались в
особенности!..
Нас доводили
до слёз
умиления
отороченные
ситчиком
женские
плечи,
горячий
песок,
продавливающийся
между
сбитыми
пальцами ног,
игривые
зайчики на
почти
условной
границе
земного
озера и
небесного
океана... Если
бы рама, в которую
был оправлен
этот
сверкающий
мир, не была
слегка
обшарпана и
потрескана,
если бы она
не несла на
себе
неизлечимого
отпечатка
казёнщины,
возможно, мы
не выдержали
бы всего
этого
счастья, и
наши сердца -
эти тонкостенные
чувствительные
сосуды -
лопнули бы,
как
воздушные
шарики от
избытка
нахлынувших
чувств…
Часами мы
купаемся в
искристом
озере с бодрящей
водой,
валяемся на
песке, задрав
подбородки в
сладкоголосые
небеса, где
тает пломбирная
рябь
инверсионного
следа, или обкусываем
поджаристые
острые самсы,
сидя с обнаженными,
белыми, как у
морлоков,
торсиками на
полосатых
циновках.
Мы много
смеёмся и
сыто щуримся
яркому солнцу.
Подолгу
выбираем
ресторан,
находим,
ошибаемся,
переходим к
другому,
потом - к
третьему. Нас
интересуют
манты,
лагманы,
куурдаки, залитые
едкими
уйгурскими
йогуртами
бараны, умач,
курут, а
также всё,
что
извлекается из
тандыра.
Обедаем мы в
загадочном
ресторане с
двумя
названиями
(одно
вывешено
снаружи,
совсем
другое -
внутри...) и с
двумя же
меню, одно из
которых
лежит на
столе, а
второе подаётся
посетителю
худеньким
официантом:
придурочным
мальчиком с
вопросительными
испуганными
глазками и
памятью аквариумной
рыбки. С
третьей
попытки он
приносит нам
заказанный
нами куурдак
- ломтики
тушенного
мяса в
античных
развалах
картошки.
Прекрасно
приготовленное
блюдо покрывает
издержки от
общения с
несообразительным
мальчиком.
Разбежавшись
на короткое
время в
разные стороны,
собираемся
вечером в
открытом ресторане
с угрюмым
названием
"Самогон".
Стало
прохладно,
пахнуло
Тянь-Шанем, и
мы сидим,
укутавшись в
бордовые
шерстяные
пледы, сложив
усталые ноги
по-турецки, и
каждый занимается
любимым
делом: Саша
потягивает
пиво через
соломинку,
Лёша курит
кальян, похожий
на гибрид
лампы
Алладина с
осьминогом, Гоша
балуется
томатным
соком, а я
цежу какой-то
примиряющий
с жизнью
напиток.
Достаточно
беглого
взгляда,
чтобы
заметить, что
мы изменились...
Продюсер
заострился и
согнулся, но
глаза его
сделались
ещё крупнее,
их чернота -
приворотнее,
и в этих
смоляных
озёрах пуще
прежнего
колобродят
великие путеводные
замыслы.
Оператор
сбрил
благородную
бороду с
вплетёнными
в неё нитями
серебра и
стал похож на
запойного
деда мороза с
приставным
красным
носом на
резиночке.
"Сценарист"
небрежно
зарос и с
трудом
шевелит черными
подгоревшими
оладьями губ,
но по-прежнему
задумчив и
саркастичен...
И только режиссёр
ничуть не
изменился: он
уверен в себе
и в своей
миссии, полон
внутреннего
достоинства
и смотрит на
окружающее
со сдержанным
вызовом. Ох
уж этот
режиссёр... Он
и в плавках
выглядит так,
точно это не
плавки, а
бриджи
британского
аристократа,
а в воду заходит
- словно
несёт на
груди
галстук-бабочку...
Перехватив
мой взгляд,
Лёша
складывает
губы
трубочкой и
выдувает
кудрявого
дымного
джинна...
- А зачем
этому
кальяну
вторая
трубка?..
- Я думаю, это
как у
акваланга:
резервный
загубник на
случай, если
первый
выходит из
строя...
Раньше, мне
бы и в голову
не пришло,
что в православной
столице
знают, что
такое кальян
- этот
групповой
курительный
грех, бедуинская
трубка мира, -
но Лёша лишь
посмеялся надо
мной... В
сущности, я
ничего не
знаю об этой новой
российской
жизни и об
этих новых
российских
людях... С
изумлением я
обнаружил,
что мои московские
друзья
никогда не
слышали тех
анекдотов,
которые у
нас, в
Израиле,
называются
"русскими", и
которые я
искренне
считал продуктом
российского
экспорта! Всю
поездку я
рассказывал
Лёше русские
анекдоты, и
он радовался
им, как
какой-то
косматый
житель Беер-Шевы...
После ужина,
мы
прогуливаемся
по захолустным
аллеям, и я
чувствую
острую
грусть и решительное
отторжение:
как занесло
меня в это
место, и что я
тут потерял?.. Чужеродный
коммунистический
монстр отступил,
уполз из этих
мест, но
образовавшуюся
пустоту
нечем
заполнить:
никто не
помнит, "как
должно быть",
а точнее -
никто
никогда и не
знал. Состав
отогнан в
тупик и
брошен, он зарастает
ковылём и
полынью.
Сонный Содом
и
неторопливая
Гоморра,
пивные реки в
бараньих
берегах… -
обкуренное
захолустное
варварство
на
развалинах -
третьего ли? -
Рима.
Просевшие
бетонные
плиты аллеи,
уставшей ждать
свой
стратегический
бомбардировщик,
белёсый
лотос в ряске
окурков,
обвисшие от
старости
государственные
ели цвета шинелей
почетного
караула. И
апофеозом
маразма -
облупленный
пневматический
тир с жестяными
уродцами...
Таблица для
проверки
зрения у
умственно
неполноценных...
В вестибюле
нашего
корпуса
висит почти
трогательное
в своём
простодушном
идиотизме
объявление:
Медицинские
Услуги:
1-Диагностика.
2-Лечебный
массаж:
*
точечный;
*
контактный;
*
баночный;
*
биоэнергетический;
*
мануальная
терапия;
*
коррекция
ауры.
3-Считывание
информации
по
фотографии.
4-Гадание.
Я не смог бы
придумать
более
выразительный
символ
заката и
упадка, даже
если бы
захотел, - не
обладаю
столь
изощрённой
фантазией...
Заправляют
нашим
пансионатом
юркие предупредительные
пареньки с
внимательными
маслинами
глаз,
предлагающие
любые курортные
развлечения
на выбор,
начиная с
познавательных
краеведческих
экскурсий и
заканчивая
быстрой
любовью
недорогих
местных красоток.
Кстати, об
экскурсиях...
Пока Саша,
Лёша и я страдали
от военного
постравматического
синдрома, -
прикладывали
спиртовые
компрессы к
ранам души,
пялились в
высокий
выбеленный
потолок
нашей палаты,
с
подвешенным
к нему за
ноги
вертолётом-вентилятором,
и слонялись
по
выморочным
лабиринтам
подсознания,
- Гоша,
прихватив
рюкзачок и
тщательно отремонтировав
перед
зеркалом
свой интерфейс,
отправился в
путешествие
в стольный
город Каракол.
К моменту
Гошиного
возвращения,
Саша уже часа
два, как убыл
на поиски
пива, в
которых он
проводил все
свои трезвые
часы, а мы с
Лёшей вели
какую-то
унылую
мертворожденную
дискуссию о
странностях
менталитетов.
Гоша был
весел,
переполнен
впечатлениями,
и мы ему
сразу же
позавидовали.
- Что
ты там
потерял в
этой столице
каракуля... - с
презрительной
ленцой в
голосе спросили
мы его....
Гоша только
и ждал
подобного
вопроса, и
тут же
принялся
выплёскивать
на нас свои
впечатления,
- оживлённый,
круглеющий лицом,
то
иронически
улыбающийся
одними лишь
аккуратными
усиками, то
надувающий
капризную
губку
творческого
человека.
-
Ка-ра-кольский
зоопарк!.. -
издевательски
передразниваю
я его, - и что же
ты видел в
этом зоопарке?..
- Лошадь
Каракольского
- невозмутимо
парирует
Гоша - а ещё, я
катался на
катере и
прыгал с него
в воду!..
- Голышом?..
- В
спасательном
жилете... А ещё
я получил сеанс
мануальной
терапии, - как
заново
родился. Меня
массировали
тут, тут, и вот
тут. Полный
отпад...
- Да-а... И
сколько же
это стоило?..
- Нисколько.
- Как это
"нисколько"?..
- А я сказал,
что я после
Хана.
Мы с Лёшей
одновременно
сели на своих
кроватях, во
все глаза
пялясь на
нашего
режиссёра,
как только и
должно
пялиться
тварям дрожащим
на право
имеющего
человека...
Подступила
ночь -
тревожная,
роняющая с
беззвёздного
неба гулкие
холодные
капли, заполненная
шепотом пихт,
нервическими
громкими
смешками,
отголосками
рока - словно
одна за
другой
бухали
далёкие
глубинные
бомбы, -
пахнущая
отсыревшими
сигаретами и
блудом.
Спать не
хотелось,
ибо, хорошо
ли, плохо ли, - наше
путешествие
подходит к
концу, скоро
окунёмся мы в
бестолковую
лабуду
будней, и ничто
уже не
вернётся и не
повторится,
но пока ещё
можно
задержаться,
продлить,
побалансировать
на гребне
волны в тот
самый момент,
когда,
споткнувшись,
она летит уже
кубарем на очередной
пустопорожний
берег.
Саша так и не
вернулся из
своего рейда
по ликеро-водочным
тылам, и мы
выходим
бороздить
втроём: Лёша,
Гоша и я.
Прозябать в
очередном
необитаемом
ресторане не
хочется - да
они уже и
закрываются,
- поэтому мы
находим
молодёжную
дискотеку,
достаточно
демократичную,
чтобы
принять даже
меня,
которого
давно уже называют
"молодым
человеком"
только милосердные
старушки да
жертвы
неудачных
глазных операций.
По
периметру
танцплощадки,
отделённые
от неё
беговой
дорожкой для
официантов,
расположены
небольшие
пластиковые
столики. Мы
занимаем
один из них и
заказываем
спиртное.
Беседуем,
перекрикивая
раскаты рока,
- никто
никого не
слышит, но
после третьего
бокала имеет
ли это
значение...
Зато, можно
рассеяно
улыбаться
уголком рта,
обжигая горло
пламенным
Бакарди, -
потягивая
его через
соломинку,
ломающую
спину
верблюда после
энного
количества
коктейлей…,
понимающе
кивать
собеседнику,
отмечая про
себя, что
похож он на
шоумена с
выключенным
звуком, и в то
же время -
поверх плеча
его -
запускать глаз
в запретную
клумбу
танцплощадки,
выхватывая
случайные
выражения
лиц и тел:
вызывающие,
призывные,
пресыщенные,
или же наоборот
- вконец
отчаявшиеся
и
беззащитные.
- Ты пробовал
Бакарди с Ред
Булем?
- Это, как
"Куба Либре"?..
- Это - как
бейсбольной
битой...
Официант!..
Нам, пожалуйста,
ещё по
Бакарди и три
баночки Ред
Була.
Я верчу в
руках
запотевшую
жестянку. Им
обоим
столько же
лет, сколько
мне одному.
Лёлик и Болик...
Они хотят
убить меня
сегодня.
Смерть от
Бакарди - это
красиво, но
пошло - от
"Ред Була"… «И
принял он
смерть от
быка своего...»
Я не
торопясь
выцедил свой
Бакарди,
помедлил,
давая ему
шанс уйти от
погони, и
пустил ему
вослед
энергетический
бычий напиток.
Покорные
фонари,
склонившиеся,
как «чего изволите»,
тоскующие за
оградой
криворогие чинары,
черноглазые
гарсоны с
безъязыкими циферблатами
тарелок в
вытянутых
руках, узкие
безголосые
выплески
танцовщиц, -
всё колыхнулось
и поплыло в
Римановых
кривых
зеркалах,
стол похабно
выгнулся,
забелели рыбьи
пузыри лиц,
предметы
сделались
насмешливы и
недосягаемы...
Для чего всё
это хорошо?.. Я
умер...
Успешно умер.
Вот именно - Я
УСПЕШНО
УМЕР!..
Губы
пережили
кессонный
зуд и
ороговели, как
черепаший
клюв - они
СКЛЕСТНУЛИСЬ!..
Вот и всё - вот
и накаркали
мне
кромешный
свет, вот и
нагадали...
- Лёшик, я
готов... Я
УСПЕШНО
УМЕР... Не
смейся - это
всё
площадный
тансинг!.. Они
все
ОГОЛТЕЛИ!.. - я
царственным
жестом обвёл
танцующих, -
ты видишь мой
клюв?.. Нет?.. Тогда
я иду
танцевать!..
Я помню себя
в пунктирных
вспышках
стробоскопа:
ланцетных,
фиолетовых,
хирургических.
Каждая
вспышка
выхватывала
из мрака и впрыскивала
в мозг
контрастный
черно-белый
дагерротип:
несколько
тел, замерших
в позах
экстаза,
выпавших на
черный лак
ночи
конденсатами
вскрика.
Атомная
пляска
Нагасаки,
лучевые
контуры,
электрические
нити
причесок,
всплески рук…
Пляшущие
ошколки... Вот
оно: ПЛЯШУЩИЕ
ОШКОЛКИ!
Следующее,
что я помню:
спутанный
клубок полуночных
аллей,
лабиринты
шорохов,
грузные городовые
ели, проседь
фонарей в
густой шевелюре
ночи, быстрые
тени с
проблесковыми
маячками
сигарет, чуть
истеричные
от предвкушения
смешки,
грибная
россыпь
окурков у пенька
урны, и над
всем этим –
черная
заводь неба и
большая
ироническая
рыба-луна
невозмутимо
рассекающая
серебристую
ряску облаков.
Гоша
покинул нас:
произнёс
что-то
непоправимо
трезвое и
растаял, а у
нас с Лёшей
прорвало
плотины души,
и клокочущий
словесный поток
смахнул, смыл
в кювет все
узкогрудые барьеры,
нагромождённые
здравомыслием
и скупым,
остистым
воспитанием.
- Я напишу ЕЙ!..
Ты видел её?..
Скажи, что ты
о ней думаешь,
я должен
написать ей?!..
- Она, как
мятный
леденец…, как
острая мята -
я понимаю
тебя… она -
замечательная!..
Но не преувеличивай
значение
писем, - не
увлекайся ПИСЬМЕНАМИ!..
Мы все
испорчены
романтическими
штампами –
испорчены
напрочь!.. -
позапрошлые
веки… А мы
живём ТУТ,
дружище… Мы
живём в
УДРУЧИТЕЛЬНОЙ
реальности!..
Ты ей
понравился?..
Вы говорили с
ней?.. Ты дал ей
понять?..
- Как я могу
знать?! Мне
кажется...
- Тебе
"кажется"?.. Ты
не можешь не
знать!.. Если ты
нравишься
женщине, если
только ты
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ей нравишься,
ты не можешь
этого не заметить...
Человек не в
силах
скрывать
своих
симпатий, а
глаз
увлечённого
отточен и снаряжен
микроскопом…
Ты можешь
увидеть то,
чего нет,
можешь
принять
чужое за своё,
но ты не
можешь
проглядеть
то, что
действительно
твоё…, ты не в
состоянии -
ты не...
- Ты скептик!..
Ты плоский,
неисправимый
скептик!.. Я
напишу ей
письмо!.. Я
напишу ей… Я…
- Что ты
знаешь об
этом?! Ты и представить
себе не
можешь, как
это бывает… – это,
как обнимать
туман или
присваивать
звёзды, - как
пытаться
разбить
голову об
шелковую
шаль… Я писал
ей такие
письма…
- Но ты же не
пошел до
конца – я
уверен, что
не пошел!.. Ты
не
переступил
грань
сумасшествия
– не сделался
СУМАСБРОДОМ!
Есть такой
барьер, - его
нужно
проломить:
пробить лбом,
пройти
сквозь... и
тогда всё
получается!..
Ты понимаешь
меня?.. Только
так всё и
получается!
Это - как с
горой, как с
войной, как
со всем… Ты
меня понимаешь?!
- Да, я понимаю
тебя, - должна
быть вера... Но...
это равнодушие,
этот взгляд
сквозь... Эта
невозможность
сфокусировать
на себе её
взгляд... -
против этого
нет
лекарства, и
нет оружия...
Ты есть - хорошо,
тебя нет -
хорошо... А,
может быть, и
ещё лучше...
Вот это - самое
страшное:
если без тебя
ещё лучше... От
одной этой
мысли у меня
внутри всё
умирало, и ноги
подкашивались...
Это то, что
лишало меня
воли. Я был
горд, - горд
непозволительным
образом... Да и
сам ведь
посуди: ну не
хотят с тобой
дело иметь,
так как же можно
– ужом, что ли?..
Не мытьем,
так
катаньем?.. Никогда
не понимал,
как можно
ЭТОГО
«добиваться»…
- Ты не верил...
- В том-то и
дело, что
поверил... На
один короткий
миг, но
полностью и
безоглядно.
- И что?..
- И ничего...
Всё
кончилось
одним таким
гробовым
утром: вдруг
в мозгу
что-то
щёлкает, становится
на место
какая-то
линза, и ты
видишь вещи
такими, какие
они есть на
самом деле. Такими
утрами
умереть
кажется
непозволительной
роскошью...
знаешь… когда
весь мир… как
перевёрнутое
ведро… гулко
и пусто. И глупо
всё. И
немного
стыдно.
- Стыдно?..
- Стыдиться
тут нечего...
Да. Но это же
от нас не зависит…
Стыд, я имею в
виду. И,
вообще, это
всё - как
пытаться
открыть
консервную
банку голубиным
пёрышком... Не
те средства,
понимаешь -
всё это
неверные
средства... То
есть, сразу –
все ошибки,
какие только
могут быть,
но как тут
убережёшься?..
Это же не шахматная
партия, это
же харакири…
- Есть
средства.
Есть люди,
которые
умеют.
- Умеют,
конечно... Но
эти умения -
от природы,
то есть, я не
хочу сказать,
что этому нельзя
научиться, но
это же всё не
то… ТАК мне
это не нужно -
к чему мне
это ТАК?!.. Это,
как в восточных
руконогих
махаловах:
побеждают холодная
голова и
скорый
глазомер, а
не страсть и
натиск. Ты
должен быть
кристально
холоден,
сдержанно
ловок,
расчетлив,
как
электронный
калькулятор.
Это игра, это
большая
гибельная
игра, и в ней
нет места всяким
тонкокожим
страстотерпцам...
А главное -
какое всё это
имеет
отношение к
любви?.. А, впрочем,
- всё не так...
Всё совсем, в
самой основе
своей не так…
Забудь, не слушай
меня... Делай
то, что
считаешь
нужным...
Всё
бессмысленно.
Мы
бесповоротно
трезвеем.
Посттравматическое
послесловие
Мной
гордятся!..
Вот так
новость...
В этом мире,
чёрством,
грубом,
Я давно
покинул
полость
По
фаллопиевым
трубам.
Жизнь - заплата
на заплатке:
От зарплаты
до зарплаты -
Аты-баты шли
солдаты...
То ли дело
было - в матке:
Не заботясь
о проценте
-
малахольном
миллионе -
Телепаешься
в плаценте,
В тёплом
булькаешь
бульоне...
Но пришёл
период
кладки:
Черепом
похож на
грушу,
Грубо выдавлен
наружу -
Были
схватки -
взятки-гладки...
Люд
озлобленный,
голодный,
Не
свободный и
не равный,
Как с горбом
гуляет с
травмой -
С
первородной,
с
мама-родной...
Всё зависит
от натуры:
Третье око
или шоры...
Кто-то курит,
кто-то - «сдуру»,
Кто-то - к
гуру, кто-то - в
горы...
Я вот - в горы,
с ледорубом,
С "если
друг"-ом, с
"лейся
песней",
Твёрдым
шагом, крупом
к трупам,
Чем
страшней -
тем
интересней!..
Пуповиною -
верёвка,
Есть ответы
на вопросы…
(Глупый
пингвин прячет
ловко
Тело тощее в
утёсы...).
Не мизинцем
был я зачат -
Я особенная
особь!..
Мной
гордятся...
Это значит
Я сумел
продать свой
способ...
Я, конечно же,
смеюсь, но
смех мой
горек. Мы все -
я имею в виду
альпинистов
и прочих
любителей
рискованных
развлечений,
- любим
посетовать на
приземлённость
окружающих
нас людей, на
отсутствие с
их стороны
якобы
необходимого
нам
«понимания»,
но вот, что я
вам сейчас расскажу:
Недавно,
одна женщина
написала мне,
что «гордится
знакомством
со мной»... Я
понимаю, что
в моих устах
пересказ
этой её фразы
звучит
нелепо и даже
пошло, но у
меня нет
другого
способа
рассказать
вам то, что я
вознамерился
рассказать,
да и речь-то
пойдёт
скорее о ней,
чем обо мне.
Речь пойдёт о
достоинствах
не броских,
но подлинных,
- тех, которыми
стоит
гордиться.
Эта женщина
работает
врачом:
принимает
роды: подхватывает
в свои ладони
солёных,
слепых младенцев,
всплывающих
из
околоплодных
вод. Она
стоит у
главного
вентиля, у
лотка: раздаёт
жизни
направо и
налево, как
добрая
торговка
горячие
пирожки. Она
частенько не
спит ночами,
в силу
спонтанного
характера
природных
процессов, с
которыми ей
приходится иметь
дело, и не
признаёт за
собой права
на выходные и
на праздники:
сетует и
ругается с профессиональным
цинизмом, но
всё-таки не признаёт
и не спит… Она,
замотанная и
задёрганная,
изо дня в
день отдаёт
другим то,
что мы с вами
ценим
превыше
всего: своё
личное драгоценное
время:
вскакивает
по вызову, перекусывает
на ходу,
сметает в
сторону собственные
беды, чтобы
освободить
место для чужих,
утирает
горькие
слёзы
потерявшим и сладкие
– обретшим,
вытягивает
на узких плечах
своих
больных и
отчаявшихся,
потерявших
надежду...
Злится,
мечется,
тонет,
выплывает,
цепляясь за
соломинку,
плачет,
любит, славит,
сквернословит,
но всегда и
прежде всего
– дарит и
сохраняет
жизнь.
И вот, значит,
какой
стороной всё
обернулось:
она гордится
знакомством
со мной:… -
волею случая,
всё ещё
здоровым и
сильным
человеком,
живущим в
своё большое
удовольствие,
не умеющим
любить своих
близких так,
как они того
заслуживают,
никого не
спасшим, не
приютившим,
не поднявшим
на ноги…
Гордится
только потому,
что из её
повседневности,
заполненной
чужими
болями,
прилипшими
ко лбу
спутанными
прядями,
дряблыми,
потерявшими
силу телами
дозревших
рожениц,
запахом
больницы и
запахом
тоскующего
женского
молока, ей кажутся
неотразимо
привлекательными
самовлюблённая
сила и
снисходительное
мужество,
растрачиваемые
в немыслимых
простому смертному
"дерзких
вызовах":
воплощённая потенция,
животное,
несокрушимое
начало, безоглядное,
а потому -
безумно
притягательное
саморазрушение
на глазах у
посрамлённых
небес…
По-моему, нам
грех
жаловаться:
мы не так уж плохо
сумели
продать «свой
способ», - вам
так не
кажется?..

Ян Рыбак,
2009г.